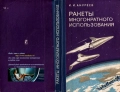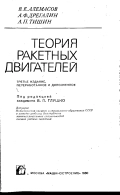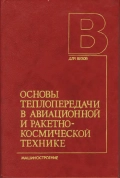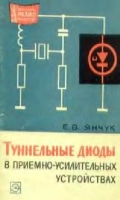Книга знакомит с новым средством доставки полезных грузов в космос — ракетами-носителями многократного использования, применение которых позволит значительно сократить расходы на осуществление космических программ.
В ней рассматриваются некоторые вопросы проектирования и отработки этих ракет, приводятся описание проектов некоторых зарубежных образцов ракет многократного использования и сведения по ракетно-космической технике, обеспечивающей ныне полеты в космос. Книга написана по материалам открытой отечественной и зарубежной печати.
Она рассчитана на широкий круг военных и гражданских читателей, интересующихся ракетной космической техникой.