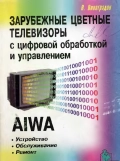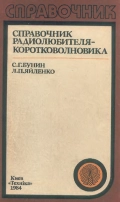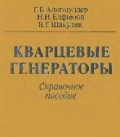В цветных телевизорах последних выпусков все шире используются цифровые методы обработки сигнала. Еще в 1981 году западногерманская фирма ITT (INTERMETALL) разработала комплект цифровых микросхем под названием «DIGIT-2000», обеспечивающий в цветных телевизорах системы PAL цифровую обработку видеосигнала, сигнала звукового сопровождения и сигналов разверток.
В 1984 году была разработана микросхема, которая выполняла функции цифрового декодера цветности SECAM. Несколько позже комплект DIGIT-2000 дополнили микросхемами для обработки сигналов телетекста, получения вставленного изображения (PIP — картинка в картинке), декодирования сигналов синхронизации телетекста и др.
В комплект цифровых микросхем входят интегральные телевизионные процессоры TVPO2066, VPC2201, видеопроцессор/декодер VSP2860-DOS, видеопроцессор/декодер VCU2133 и декодер цветности SECAM (SECAM-процессор) SPU2243.