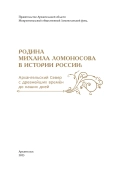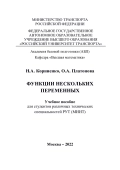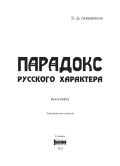В последние годы на потребительском рынке наблюдается положительная динамика продаж круп быстрого приготовления и концентратов на их основе, в том числе и инстантных (не требующих варки), что свидетельствует об их востребованности. Производитель, основываясь на вкусовых предпочтениях потребителя, в структуру продукта вносит новые ингредиенты – фрукты, смеси ягод, трав, тем самым, расширяет их ассортимент. Экспертной комиссией ВНИИЗ – филиале ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН проведена оценка качества 6 образцов овсяной каши с различными добавками от разных отечественных производителей для разных торговых сетей. Для исследований были отобраны образцы овсяной каши в пакетиках, выработанные в соответствии со стандартами организации (СТО) и ТУ. Образцы каш расфасованы в индивидуальные пакетики, на которых нанесена информация, содержащая все необходимые сведения для потребителя. Экспертиза качества образцов овсяной каши проведена по органолептическим показателям с обоснованием и характеристикой каждой оценки. Оценки выставляли по пятибалльной шкале, которые потом суммировали и определяли их усредненные значения за внешний вид, цвет, запах, консистенцию и вкус балльным методом. Произведен расчет комплексной органолептической оценки (КОО) исследуемой продукции. Целью данной работы являлось проведение органолептической оценки овсяных каш быстрого приготовления и установление соответствия качества исследуемых образцов требованиям принятых нормативных документов. Для исключения предпочтения членов комиссии к тому или иному производителю и торговой марке, каждому образцу были присвоены номера. По результатам дегустации установлено, что исследуемая овсяная каша по всем показателям соответствовала требованиям нормативных документов. Один образец (№1) из шести был непригоден для употребления (КОО менее 60). Два образца (№2 и №3) имели хорошее качество (КОО свыше 60) и отличное (КОО свыше 80) качество у трех образцов (№4-6). При этом у пробы № 6 был наивысший уровень качества (100 баллов).