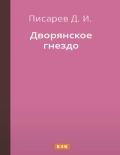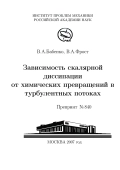Основной причиной, определяющей неблагоприятный прогностический исход у пациентов, перенёсших инсульт, является полиморфизм когнитивных и двигательных нарушений.
Цель исследования ― на основании статистической методологии оценить влияние клинических и параклинических факторов на функциональный исход пациента в остром периоде ишемического инсульта.
Материалы и методы. Обследовано 160 пациентов первичного сосудистого центра с диагнозом ишемического инсульта в каротидном бассейне. Параметры функционального исхода обозначались абсолютными значениями и вычислялись разницей между показателями Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (MoCA), шкалы Национального института здоровья (NIHSS), индекса Бартеля (BI) и модифицированной шкалы Рэнкина (mRS) до и после лечения. В качестве факторов, влияющих на прогноз острого инсульта, рассматривались демографические признаки, параметры когнитивной функции, характеристики инсульта (локализация, латерализация, подтип). Математическая статистика была выполнена с использованием языка программирования Python и библиотек Pandas и SciPy.
Результаты. Разработанная в настоящем исследовании математическая модель позволила выявить основные нейропсихологические и клинические показатели, отрицательно и положительно влияющие на функциональный исход острого инсульта. В качестве основных факторов, влияющих на функциональный исход в отношении МоСА, выявлены нарушения в сферах внимания, речи и исполнительной функции, возраст, показатели по шкалам IQCODE (опросник информатора о снижении когнитивных функций у пожилых людей) и ASPECTS (оценка ранних компьютерно-томографических изменений при инсульте). Влияние на дневную активность пациента по IB оказывали апраксия, агнозия, исполнительная дисфункция, пол, возраст, сторона поражения, параметры IQCODE. Регресс неврологической симптоматики по NIHSS зависел от показателей в сфере перцепции, праксиса, речи, значений IQCODE и ASPECTS. В отношении прогноза инвалидизации по mRS значение имели семантическая афазия, мнестическая и исполнительная дисфункция, апраксия, показатели IQCODE.
Заключение. Применение дискриминантного анализа для прогноза функционального исхода позволит сформировать персонифицированные диагностические и терапевтические стратегии по ведению пациентов в остром периоде ишемического инсульта. Прогностическая ценность клинических и параклинических маркеров в отношении восстановления двигательной и когнитивной функции у пациентов может быть полезна в дальнейшем менеджменте ишемического инсульта.