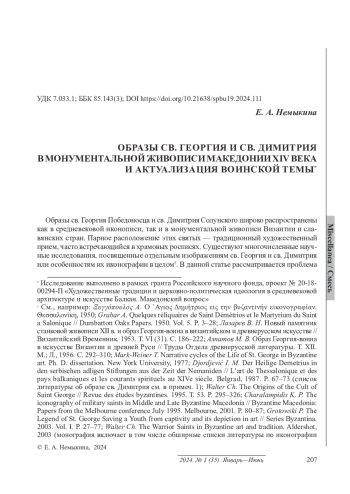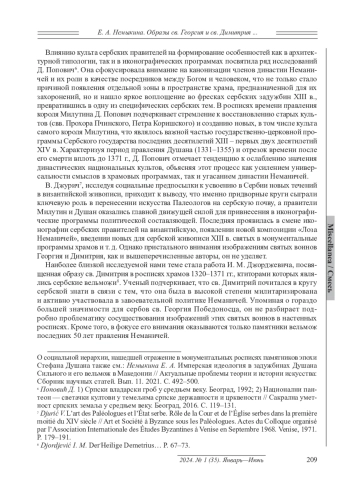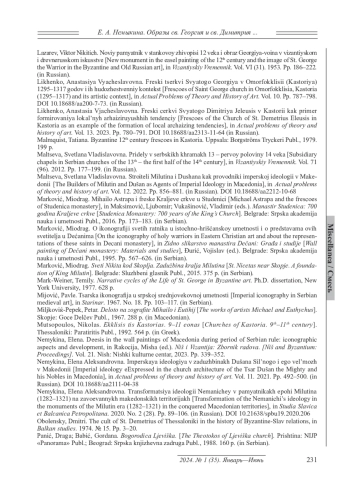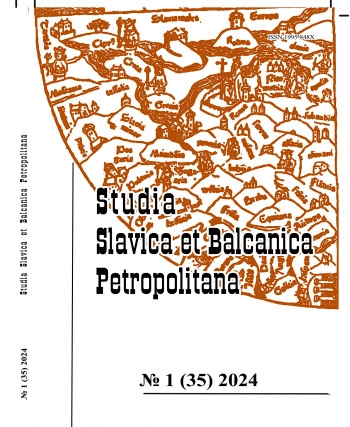Почитание свв. Георгия и Димитрия было широко распространено как в Византии, так и среди южных славян. Как правило, в научных исследованиях основное внимание уделяется иконографическим и стилистическим особенностям этих святых воинов. В данной статье на примере памятников сербского средневекового искусства, расположенных на территории Македонии, исследуется вопрос влияния на распространение их культа прежде всего ключевых аспектов идеологии сербских правителей Неманичей. Более пристальное внимание к отдельным иконографическим сюжетам проливает свет на сложную и весьма разнообразную картину развития сербской живописи в XIV в. и выявляет как ее специфику, так и общие точки соприкосновения с византийским искусством. Обращение к образам свв. Георгия и Димитрия служит одним из примеров взаимодействия византийской тематики и местной специфики, обусловленной общей идеей сохранения национального самосознания в рамках всеобщей «византизации». Не менее интересно проследить и выявить причины акцентирования национальных идей и индивидуальных локальных особенностей в эпоху правления короля Милутина, когда государственная идеология постепенно приобретает имперские черты, и происходит их постепенное сглаживание, примерно с 1340-х гг. обусловленное спецификой политических амбиций царя Стефана Душана, стремившегося не столько к встраиванию в византийскую парадигму, сколько к ее присвоению. В этом историко-политическом контексте рассмотрено, как эти события отражаются на распространении культов свв. Георгия и Димитрия, поскольку, с одной стороны, святой Георгий является одним из наиболее почитаемых византийских святых, с другой — его почитание тесно связано со Стефаном Неманей (основателем династии Неманичей и одним из главных национальных сербских святых). Иконография св. Димитрия Солунского имела тесную связь с главным центром почитания этого святого — Фессалоникой, где возникло множество иконографических вариантов, а также с окружающими греческими и славянскими землями. Кроме того, этот святой был тесно связан с династией Палеологов, а город, патроном которого он являлся, в период правления короля Милутина приобрел важное значение в том числе для сербских правителей.
Идентификаторы и классификаторы
Образы св. Георгия Победоносца и св. Димитрия Солунского широко распространены как в средневековой иконописи, так и в монументальной живописи Византии и славянских стран. Парное расположение этих святых — традиционный художественный прием, часто встречающийся в храмовых росписях. Существуют многочисленные научные исследования, посвященные отдельным изображениям св. Георгия и св. Димитрия или особенностям их иконографии в целом1.
Список литературы
1. Алпатов, Михаил Владимирович. Образ Георгия-воина в искусстве Византии и древней Руси // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XII. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1956. С. 292-310.
2. Архиепископ Данило II. Животи краљева и архиепископа српских. Београд: Српска књижевна задруга; Просвета, 1988. 339 с.
3. Бабић, Гордана. Краљева црква у Студеници. Београд: Просвета; Републички завод за заштиту споменика културе, 1987. 274 с.
4. Бабић, Гордана. О живописном украсу олтарских преграда // Зборник за ликовне уметности. 1975. № 11. С. 1-41.
5. Бабић, Гордана; Кораћ, Војислав; Ћирковић, Сима. Студеница. Београд: Jугословенска ревиjа, 1986. 200 c.
6. Васильев, Александр Александрович. История Византийской империи. Санкт-Петербург: Алетейя, 2013. 584 с.
7. Војводић, Драган. Зидно сликарство цркве Светог Ахилиjе у Ариљу. Београд: Стубове културе, 2005. 245 с.
8. Габелић, Смиљка. Манастир Лесново. Историjа и сликарство. Београд: Стубови културе, 1998. 305 с.
9. Глигориjевић-Максимовић, Мирjана. Особености хагиографских циклуса у српском и византиjском сликарству // Зборник радова Византолошког института. 1998. № 37. С. 155-165.
10. Губарева, Оксана Витальевна; Турцова, Нина Михайловна. Великомученик Георгий Победоносец. СПб.: Метропресс СПб, 2013. 76 с.
11. Давидов-Темерински, Александра. Богородица Љевишка у Призрену. Београд: Републички завод зазаштиту споменика културе, 2017. 79 с.
12. Джурич, Воислав. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация, славянская Македония. Москва: Индрик, 2000. 592 с.
13. Ђорђевић, Иван. Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића. Београд: Филозофски факултет, 1994. 309 с.
14. Ђорђевић, Иван. О сликаним програмима српских цркава XIII столећа // Краљ Владислав и Србија XIII века / Ур. Живковић, Тибор. Београд: Историјски институт, 2003. С. 147-164.
15. Ђурић, Војислав. Свети Сава и сликарство његовог доба // Сава Неманић - Свети Сава. Историjа и предање: Научни скупови. Књ. VII / Ур. Ђурић, Војислав. Београд: Српска академија наука и уметности, 1979. С. 245-261.
16. Ђурић, Војислав. Сопоћани. Београд: Просвета; Републички завод за заштиту споменика културе; Приштина: Jединство, 1991. 246 с.
17. Ђурић, Војислав. Три догађаjа у српскоj држави XIV века и њихов одjек у сликарству // Зборник за ликовне уметности. 1968. № 4. C. 66-115.
18. Ђурић, Војислав. Поменик светогорског протата с краја XIV века // Зборник радова Византолошког института. 1981. № 20. С. 139-167.
19. Живковић, Бранислав. Грачаница: Цртежи фресака. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1998. 103 с.
20. Живковић, Бранислав. Милешева: Цртежи фресака. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1992. 55 с.
21. Живковић, Бранислав. Сопоћани: Цртежи фресака. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1984. 42 с.
22. Живот Стефана Немање од краља Стефана Првовенчаног // Стара српска књижевност. Књ. 1 / Ур. Милисавац, Живан. Нови Сад, Београд: Матица српска; Српска књижевна задруга, 1970. С. 73-115.
23. Захарова, Анна Владимировна; Дятлова, Елена Сергеевна. О строителях и художниках, работавших в македонском Прилепе в конце XIII в. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2020. № 2 (28). С. 46-72.
24. Захарова, Анна Владимировна; Мальцева, Светлана Владиславовна. Приделы в сербских храмах эпохи Душана Сильного (1331-1355) // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2013. № 3. С. 125-144. EDN: RDWZFR
25. Зидно сликарство манастира Дечани: Грађа и студиjе / Ур. Ђурић, Војислав. Београд: Српска академија наука и уметности, 1995. 643 с.
26. Кандић, Оливера; Поповић, Светлана; Зарић, Радоjка. Манастир Милешева. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 1995. 30 с.
27. Кисас, Сотирис. Оморфоклисиjа. Зидне слике цркве Светог Ђорђа код Касториjе. Београд: Византолошки институт Српске Академиjе наука и уметности, 2008. 55 с.
28. Кисас, Сотирис. Српски средњовековни споменице у Солуну // Зограф. 1980. № 11. С. 29-43.
29. Кораћ, Војислав. Свети Сава и програм Рашког храма // Сава Неманић - Свети Сава. Историjа и предање: Научни скупови. Књ. VII / Ур. Ђурић, Војислав. Београд: Српска академија наука и уметности, 1979. С. 231-244.
30. Костовска, Петрула. Програмата на живописот на црквата Св. Никола во Варош каj Прилеп и неjзината функциjа како гробна капела // Зборник за средновековната уметност на музеj на Македониjа. 2001. № 3. С. 50-77.
31. Костовска, Петрула. Свети Никола Манастир. Средновековно сликарство. Скопjе: Каламус, 2020. 443 с.
32. Лазарев, Виктор Никитич. Новый памятник в станковой живописи XII в. и образ Георгия-воина в византийском и древнерусском искусстве // Византийский Временник. Т. VI (31). 1953. С. 186-222.
33. Лихенко, Анастасия Вячеславовна. Фрески церкви Святого Георгия в Оморфокклисии (Кастория) 1295-1317 годов и их художественный контекст // Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2020. Вып. 10. С. 787-798. DOI: 10.18688/aa200-7-73 EDN: DOVOSH
34. Лихенко, Анастасия Вячеславовна. Фрески церкви Святого Димитрия Элеусис в Кастории как пример формирования локальных архаизирующих тенденций // Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2023. Вып. 13. С. 780-791. DOI: 10.18688/aa2313-11-64 EDN: FFDWIR
35. Мальцева, Светлана Владиславовна. Приделы в сербских храмах XIII - первой половины XIV в. // Византийский временник. Т. 71 (96). 2012. С. 177-199. EDN: RUZUHF
36. Мальцева, Светлана Владиславовна. Строители Милутина и Душана как проводники имперской идеологии в Македонии // Актуальные проблемы теории и истории искусства. Вып. 12. 2022. С. 856-881. 10.18688/аа2212-10-68. DOI: 10.18688/aa2212-10-68 EDN: HBLDSW
37. Марковић, Василиjе. Православно монаштво и манастири у средњовековноj Србиjи. Сремски Карловци: Српска анастирска штампарија, 1920. 448 с.
38. Марковић, Миодраг. Михаило Астрапа и фреске Краљеве цркве у Студеници // Манастир Студеница: 700 година Краљеве цркве / Ур. Максимовић, Љубомир; Вукашиновић, Владимир. Београд: Српска академија наука и уметности, 2016. С. 173-183.
39. Марковић, Миодраг. О иконографији светих ратника у источно-хришћанској уметности и о представама ових светитеља у Дечанима // Зидно сликарство манастира Дечани: Грађа и студиjе / Ур. Ђурић, Војислав. Београд: Српска академија наука и уметности, 1995. С. 567-626.
40. Марковић, Миодраг. Свети Никита код Скопља. Задужбина краља Милутина. Београд: Службени гласник, 2015. 375 с.
41. Миjовић, Павле. Царска иконографиjа у српскоj средњовековноj уметности // Старинар. 1967. № 18. С. 103-117.
42. Миљковиќ-Пепек, Петар. Делото на зографите Михаило и Еутихиj. Скопjе: Гоце Делчев, 1967. 288 с.
43. Немыкина, Елена Александровна. Имперская идеология в задужбинах Душана Сильного и его вельмож в Македонии // Актуальные проблемы теории и истории искусства. Вып. 11. 2021. С. 492-500. DOI: 10.18688/aa2111-04-38 EDN: QDKBFE
44. Немыкина, Елена Александровна. Трансформация идеологии Неманичей в памятниках эпохи Милутина (1282-1321) на завоеванных македонских территориях // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2020. № 2 (28). С. 89-106. DOI: 10.21638/spbu19.2020.206
45. Панић, Драга; Бабић, Гордана. Богородица Љевишка. Приштина: НИJП “Панорама”; Београд: Српска књижевна задруга, 1988. 160 с.
46. Попович, Даница. Национални пантеон - светачки култови у темељима српске державности и црквености // Сакрална уметност српских земаља у средњем веку. Византијско наслеђе и српска уметност. Т. 2 / Ур. Воjводић, Драган; Поповић, Даница. Београд: Службени гласник, 2016. С. 119-131.
47. Поповић, Даница. Српски владарски гроб у средњем веку. Београд: Институт за историjу уметности Филозофског факултета, 1992. 214 с.
48. Радоjчић, Светозар. Милешева. Београд: Српска књижевна задруга; Просвета,1963. 92 с.
49. Смолчић-Макуљевић, Светлана. Царски деисис и Небески двор у сликарству XIV века манстира Трескавац. Иконографски програм северне куполе припрате цркве Богородичног Успења // Трећа jугословенска конференциjа византолога: Студиjе и монографиjе. Књ. 2 / Ур. Максимовић, Љубомир; Радошевић, Нинослава; Радуловић, Ема. Београд: Византолошки институт САНУ; Крушевац: Народни музеj, 2002. С. 463-472.
50. Тодић, Бранислав. Грачаница: сликарство. Београд: Просвета; Приштина: Jединство;1988. 421 с.
51. Тодић, Бранислав. Зидно сликарство у доба краља Милутина. Београд: Култура, 1998. 395 с.
52. Тодић, Бранислав. Старо Нагоричино. Београд: Просвета, 1993. 238 с.
53. Тодић, Бранислав; Чанак-Медић, Милка. Манастир Дечани. Београд: Музейj у Приштини; Центар за очување наслеђа Косова и Метхохиjе; Српски православни манастир Високи Дечани, 2005. 536 с.
54. Томић-Ђурић, Марка. Идејне основе тематског програма живописа цркве Светог Димитрија у Марковом манастиру. Дисc. …докт. иск. Универзитет у Београду. Београд, 2017. 954 c.
55. Чанак-Медић, Милка. Етапе изградње Ђурђевих Ступова у Будимљи // Зограф. 1980. № 11. С. 20-28.
56. Чанак-Медић, Милка; Поповић, Даница; Воjводић, Драган. Манастир Жича. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 2014. 578 с.
57. Bauer, Franz Alto. Eine Stadt und ihr Patron: Thessaloniki und der Heilige Demetrios. Regensburg: Schnell & Steiner, 2013. 480 p.
58. Charalampidis, Konstantinos. The iconography of military saints in Middle and Late Byzantine Macedonia // Byzantine Macedonia: Papers from the Melbourne conference July 1995. Melbourne, 2001. P. 80-87.
59. Djordjević, Ivan. Der Heilige Demetrius in den serbischen adligen Stiftungen aus der Zeit der Nemaniden // L’art de Thessalonique et des pays balkaniques et les courants spirituels au XIVe siècle: Recueil des rapports du IVe Colloque serbo-grec, Belgrade 1985 / Red. Samardžić, Radovan; Davidov, Dinko. Belgrade: Académie serbe des sciences et des arts; Institut des études balkaniques, 1987. P. 67-73.
60. Djurić, Vojislav. L’art des Paléologues et l’État serbe. Rôle de la Cour et de l’Église serbes dans la première moitié du XIV siècle // Art et Société à Byzance sous les Paléologues. Actes du Colloque organisé par l’Association Internationale des Études Byzantines à Venise en Septembre 1968. Venise, 1971. P. 179-191.
61. Dyatlova, Elena. Deesis in the wall paintings of the Macedonia in the 12th-13th centuries: iconographic aspects and development // Ниш и Византиjа: Зборник радова. Вып. XXI / Ур. Ракоциjа, Миша. Ниш: Нишки културне центар, 2023. Р. 325-338.
62. Grabar, André. Quelques réliquaires de Saint Démétrios et le Martyrium du Saint a Salonique // Dumbarton Oaks Papers. Vol. V. Washington, 1950. P. 3-28.
63. Grotowski, Piotr. Arms and Armour of the Warrior Saints, tradition and innovation in Byzantine iconography (843-1261). Leiden, The Netherlands; Boston: Brill, 2010. 625 p.
64. Grotowski, Piotr. The Legend of St. George saving a Youth from captivity and its depiction in art // Series Byzantina. Vol. I. Warszawa: Neriton, 2003. P. 27-77.
65. Hadermann-Misguich, Lydie. Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du XIIe siècle. Bruxelles: Editions de Byzantion, 1975. 606 p.
66. Malmquist, Tatiana. Byzantine 12th century frescoes in Kastoria. Uppsala: Borgströms Tryckeri, 1979. 199 p.
67. Mark-Weiner, Temily. Narrative cycles of the Life of St. George in Byzantine art: Ph.D. dissertation, New York University, 1977. 628 p.
68. Nemykina, Elena. Deesis in the wall paintings of Macedonia during period of Serbian rule: iconographic aspects and development // Ниш и Византиjа: Зборник радова. Вып. XXI / Ур. Ракоциjа, Миша. Ниш: Нишки културне центар, 2023. Р. 339-352.
69. Obolensky, Dmitri. The cult of St. Demetrius of Thessaloniki in the history of Byzantine-Slav relations // Balkan studies. 1974. № 15. P. 3-20.
70. Pelekanidis, Stylianos; Chatzidakis, Manolis. Kastoria. Mosaics - Wall Paintings. Byzantine Art in Greece. Athens: Melissa, 1985. 108 p.
71. Sinkević, Ida. The Church of St. Panteleimon at Nerezi: Architecture, Programme, Patronage. Wiesbaden: Reichert, 2000. 209 p.
72. Tomić Djurić, Marka. Monumental painting in the Mrnjavčević State and Late Medieval Novgorod: Parallels in program and iconography // Actual Problems of Theory and History of Art. No 9. 2019. P. 339-349. DOI: 10.18688/aa199-2-30 EDN: CZMMIG
73. Walter, Christopher. The Origins of the Cult of Saint George // Revue des études byzantines. 1995. T. 53. P. 295-326.
74. Walter, Christopher. The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition. Aldershot, Ashgate: Routledge, 2003. 384 p.
75. Živković, Miloš. Najstarije zidno slikarstvo Bogorodičine crkve u Studenici i njegova obnova u XVI veku. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beograd, 2019. 643 p.
76. Živković, Miloš. Warrior saints at Nerezi - the selection of figures and other remarks on their iconography // Зборник радова Византолошког института. 2022. № 59. C. 211-249. DOI: 10.2298/ZRVI2259211Z EDN: HPILEQ
77. Μουτσόπουλος, Νικόλαος. Εκκλησίες της Καστοριάς. 9ος-11ος αιώνας. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992. Σ. 564.
78. Ξυγγόπουλος, Ανδρέας. Ο ’Αγιος Δημήτριος εις την βυζαντινήν εικονογραφίαν. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1950. Σ. 15.
79. Παζαρας, Νikolaos. Εικονογραφικοί τύποι του Αγίου Δημητρίου // O άγιος Δημήτριος στην τέχνη του Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη: Αγιορειτικι Εστια, 2005. Σ. 37-48.
80. Σίσιου, Ιωάννης. Άγιος Γεώργιος ο Μέγας Δούκας - εικόνα του Μουσείου Καστοριάς // Зограф. 2014. № 38. С. 99-112.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В культуре древнерусских земель, как и всего православного мира, почитание Богоматери приобрело поистине широчайшие масштабы. В этой связи особого внимания заслуживают образы святых жен, которые довольно часто встречаются в контексте изображения Богоматери – либо как дополнительные фигуры, либо на обороте двусторонних икон. Однако тема почитания образа Богоматери и образов святых жен недостаточно исследована. Данная статья посвящена интерпретации образов святых жен в составе композиции избранных святых на полях икон, где в среднике представленобраз Богоматери. В иконографии этого типа икон интересующие нас образы являются ключевыми фигурами в общем иконографическом замысле произведений, связаны с почитанием Богоматери, призваны акцентировать некоторые грани богородичного культа. Речь идет о свойственных образам святых жен функциях заступничества, покровительства, учительства, которые сближают их с изображением в среднике. На примере памятников различных древнерусских центров предлагается новая трактовка функций их образов, которая, однако, не противоречит ранее устоявшимся в науке представлениям о либо сугубо утилитарных аспектах почитания, связанных с покровительством определенным граням повседневности, либо с патрональными функциям. Однако данные представления не могут объяснить всех особенностей культа святых жен. Эти особенности нашли отражение в иконографии конкретных произведений. Таким образом, предлагаемая в данной статье трактовка призвана дополнить наши представления о той роли, которую образы святых жен играют в культуре Древней Руси и, в частности, в композициях интересующего нас типа.
Зооморфная иконография св. Христофора сегодня все чаще привлекает внимание многих исследователей. Несмотря на широкий корпус искусствоведческой литературы, проблема бытования культа и реликвий св. Христофора на Руси практически не рассмотрена. Анализ письменных источников позволяет говорить о широком распространении реликвий св. Христофора на Руси начиная с XVII века. Частицы его мощей, заключенные в драгоценные раки и реликварии, со временем разошлись по всей стране. Одна из крупных святынь — честная глава св. Христофора, по форме напоминающая голову собаки, хранилась в Успенском соборе Московского Кремля и, как сообщают источники, была задействована в торжественном Чине омовения святых мощей. Зооморфная иконография мученика могла сложиться не только на основании житийных повествований св. Христофора, описывающих его с головой «аки песья», но и в связи с пребыванием в сердце Москвы — Московском Кремле — его значимой реликвии. Вместе с тем, на Руси специфический образ св. Христофора в качестве врачевателя особенно остро воспринимался в «контексте» народной культуры. Почитание мученика актуализировалось на фоне трагических событий в истории Руси, связанных с моровыми поветриями, вызывающими большую смертность не только среди людей, но и животных.
В «Житии святой Елены, королевы Сербии» (?–1314) архиепископ Данило II, её современник, рассказывает о трёх заседаниях Сабора (собрания), состоявшихся после её смерти. Первое было созвано самой Еленой, когда она почувствовала приближение смерти: Данило описывает, как он и другие созванные им люди бросились к ней, подобно апостолам во время Успения Богородицы. Современные учёные считают, что это было местное собрание, в котором участвовали только представители знати и церковные сановники из тех земель, которыми Елена владела как вдовствующая королева. Второе собрание, в котором, вероятно, участвовал весь сербский Сабор, было созвано после её смерти для организации похорон во главе с её сыном, королём Стефаном Урошем Милутином. Третье собрание, вероятно, снова местное, состоялось три года спустя для переноса её мощей, что, вероятно, положило начало (но ещё не завершило) её канонизации. Цель этой статьи — проанализировать то, как Данило описывает эти собрания, и их значение как для зарождающегося культа святой Елены, так и для средневекового сербского государства.
В статье исследуется литературная традиция, передающая память о мучениках поздней античности из Сирмия, а также методологические проблемы, с которыми сталкиваются исследователи при попытке выявить исторические связи между культами мучеников, возникшими после Великого гонения на христиан (303–310 гг.), и первыми описаниями их страданий, сохранившимися в рукописной традиции греческой и латинской агиографической литературы (с VIII века). История страданий этих мучеников вошла в культурную память благодаря почитанию их культа и нарративной традиции, тем самым повлияв на формирование христианской идентичности этого святилища, независимо от этнической принадлежности его носителей. В статье представлен обзор предыдущих исследований и гипотетических решений, которые служат методологической основой для дальнейших изысканий. Методологической основой статьи является сравнительно-критический анализ всех доступных источников, в которых упоминаются случаи мученичества, связанные с древним городом Сирмиум. Обсуждаются происхождение, подлинность и историческая ценность этих источников, а также контекст, в котором они были созданы.
Как складывалось сакральное пространство православных епархий в XV–XVII веках? Можно ли определить закономерности в посвящении православных церквей определенным святым? Участники дискуссии анализируют эти вопросы, опираясь на опыт собственных исследований на разных территориях Московской Руси — европейской части и Сибири. Исследования показывают, что строительство храмов и посвящение их православным святым, православным праздникам — это своеобразный индикатор духовного освоения территории, ее обживания. Динамика посвящений престолов городских и монастырских соборов, городских и сельских приходских церквей отражает особенности формирования приходской структуры, показывает взаимосвязь общегосударственных и локальных процессов. Изучение церквей Московской Руси становится репрезентативным после появления детальных описаний сельского пространства в конце XV в. Трансформации социальной структуры государства, изменения внутренних и внешних границ приводят к динамичным изменениям в посвящениях престолов церквей и изменениям в приходской структуре.
Динамика посвящений сельских церквей отражает локальные особенности формирования приходской структуры, как в Западном, так и в Восточном христианском пространстве. Для Московской Руси исследование такой динамики возможно прежде всего со времени появления правильного описания сельского пространства в конце XV в. Трансформации социальной структуры средневековой Новгородской земли после включения ее в состав Московской державы повлекли за собой динамические изменения посвящений церквей и изменение приходской структуры.
Предметом исследования в данной статье является средненижненемецкое выражение in doder Narwe. Автор переводит его как «немецкая (тевтонская) Нарва», отвергая перевод «мертвая Нарва/Нарова», предложенный в 1936 году А. Сювалепом и поддерживаемый в настоящее время П. В. Лукиным. В качестве аргументов приводится, во-первых, ссылка на ряд лексических особенностей средненижненемецкого диалекта, сформировавшегося в условиях взаимодействия разных наречий, с характерной для него многовариантностью написания слов. Во-вторых, автор предлагает установить смысл спорного выражения, исходя из событийного контекста, который может быть восстановлен с помощью ганзейской переписки. Выражение in doder Narwe использовано в документах по делу об ограблении новгородских и ревельских купцов, совершенного на реке Нарва/Нарова в 1407 году шведскими торговыми агентами фогта Выборга Торна Бунде по инициативе Берндта фон Вреде, чьи товары были арестованы на ганзейском подворье в Новгороде. В связи с этим возникла необходимость определить границы юрисдикций немецкой или русской сторон, что было трудно сделать ввиду неразграниченности на тот момент русла реки. Перевод «мертвая Нарва/Нарова» и идентификация ее с притоком Луги Куллакюлы (Мертвицей) в данную ситуацию никак не вписываются, тогда как выражение «в немецкой (тевтонской или орденской) Нарове» представляется вполне уместным, поскольку оно употреблено в связи с юрисдикцией Немецкого (Тевтонского) ордена в Ливонии.
Статья посвящена чуду низвержения идолов в 79 главе Хроники Иоанна Никиусского, связанного с падением статуй Артемиды и Аполлона при входе малолетнего Феофила, будущего патриарха Александрийского (+412), в языческий храм в Мемфисе. Отроку Феофилу придаются черты Моисея и Христа одновременно, поскольку с одной стороны, как при приходе Христа в Египет, так и при его посещении храма, кумиры падают и разбиваются, а с другой стороны, Феофил, как Моисей, должен бежать от египтян-язычников. Рассказ о «самосокрушении» идолов имеет целый ряд параллелей в мученических житиях — Корнилия Сотника, Георгия Победоносца, Никиты Готского и других. Схема падения идолов однотипна: мученик делает вид, что готов принести жертву кумирам, вводится в храм, молится, после чего они падают. Эти рассказы могут базироваться на реальных случаях падения статуй во время землетрясений. Однако, в житиях отсутствует ряд деталей, важных, для повествования «Хроники Иоанна Никиусского». Непосредственную связь с 79 главой Иоанна Никиусского имеет Евангелие детства Христа — рассказ о том, что при приходе Святого Семейства в Египет рухнул идол, а также в так называемом Сказании Афродисиана. В Сказании повествуется о том, как в персидском царстве во время рождения Христа голоса из кумиров говорили о рождестве от Марии, а после явления звезды все кумиры падают, кроме статуи «Источника», становящейся прообразом Девы Марии. Это предание отразилось в кондаке Романа Сладкопевца «На избиение Вифлеемских младенцев», а также в Акафисте. В контексте Хроники Иоанна Никиусского и событий 391 г. — разгрома Серапеума, о котором также сообщает Хроника, и избиения христиан язычниками — выстраивается следующая символическая конструкция: приход Феофила во храм и падение кумиров, затем бегство в Никиу и в Александрию, резня в Серапеуме в 391 г. — уподобляются бегству Христа в Египет, сокрушению идолов, и избиению младенцев. Реальной основой для рассказа явилось так называемое чудо св. Спиридона Тримифунтского — падение идолов, произошедшее в 320 г., в год антиарианского собора, на котором мог присутствовать прославленный кипрский епископ. Позднейшая традиция соединила это событие с разрушением Серапеума. Это чудо могло быть перенесено на малолетнего Феофила, возможно, в связи с тем, что 320 г. мог быть годом его рождения. Здесь публикуется перевод 79 главы Хроники Иоанна Никиусского.
В статье рассматривается вопрос об обозначении представителей монгольской элиты в русских источниках в первые десятилетия после нашествия Батыя. В рассказе Ипатьевской летописи о взятии Киева в 1240 г. «воеводами» именуются и члены ханского рода, родственники Батыя, и военачальники, не принадлежавшие к династии Чингисидов. При этом «братья» Батыя определяются как «сильные воеводы», лучший монгольский полководец Субэдэй — как «первый воевода» Батыя, остальные военачальники — как «иные воеводы». Сопоставление терминологии, применявшейся по отношению к монгольской и затем ордынской знати в источниках XIII века, с одной стороны, и более позднего времени — с другой, позволило установить, что известная из источников XIV–XV столетий иерархия русских терминов: хан, верховный правитель — цесарь/царь, члены ханского рода (Чингисиды, Джучиды) — царевичи, эмиры (беки) — князья, в XIII столетии еще не сложилась. Чингисиды, как правило, упоминались без титула. Для лиц ханского окружения в этот период мог применяться термин рядца. Представители ханской администрации могли определяться по должности (баскаки). Когда же контекст сообщения источника имел отношение к военным действиям, предпочитался термин «воевода». Причем воеводами могли называться как члены ханского рода, так и полководцы, не принадлежащим к правящей династии. Таким образом, при отсутствии в первые десятилетия после подчинения Руси власти монгольских ханов разработанной русской терминологии для обозначения знати завоевателей, термин «воевода» использовался как универсальное определение.
Середина XIII века стала поворотным моментом в историографии Монгольской империи. Захватив трон в 1251 году, Мункэ-хан взял под контроль и её прошлое, заказав ряд новых придворных хроник. В настоящее время широко распространено мнение, что Мёнке был инициатором составления истории Чингисхана (годы правления 1206–1227) и его преемника Угэдэя (годы правления 1229–1241), известной как «Сокровенное сказание монголов» На основе более ранних генеалогий, прокламаций и переписки «Сокровенное сказание» считается первым достоверным источником о создании Монгольского государства. Однако эта точка зрения может быть ошибочной, поскольку существуют убедительные доказательства того, что первые персидские хроники о Монгольской империи были основаны на ещё более ранних повествовательных источниках монгольского двора. Содержание этих источников позволяет предположить, что они в значительной степени опирались на информацию чиновников Кара-Китая, которые либо бежали, либо были назначены на должности в ранней монгольской администрации Ирана. Эти персидские авторы приводят отрывочные свидетельства о том, как монголы помнили своё прошлое до того, как распространилась новая версия, продвигаемая Мункэ. В рамках настоящего исследования будет проанализирована одна из самых ранних персидских исторических хроник — «Рассказ о проклятых татарах и начале их правления» Шихаб ад-Дина Насави (ум. в 1250 г.), чтобы определить возможное происхождение этих монгольских исторических хроник и их вклад в историографию империи.
В современных научных работах, посвящённых эпохе монгольских походов, в частности Великому западному походу (1236–1242), мы видим противоречивую картину, состоящую из различных, а иногда и взаимоисключающих взглядов на ключевой вопрос о целях завоевателей и о том, насколько завоевания на Западе соотносились с более масштабными стратегическими целями Монгольской империи.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- СПБГУ
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9
- Юр. адрес
- 199034, г Санкт-Петербург, Василеостровский р-н, Университетская наб, д 7/9
- ФИО
- Кропачев Николай Михайлович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- spbu@spbu.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 3282000
- Сайт
- https://spbu.ru/