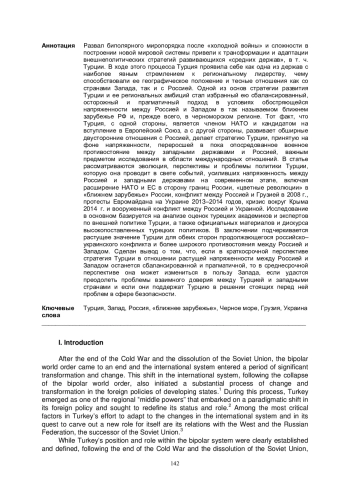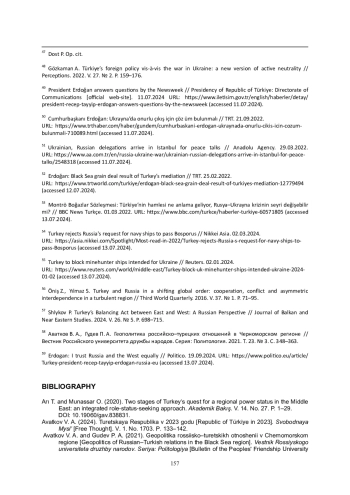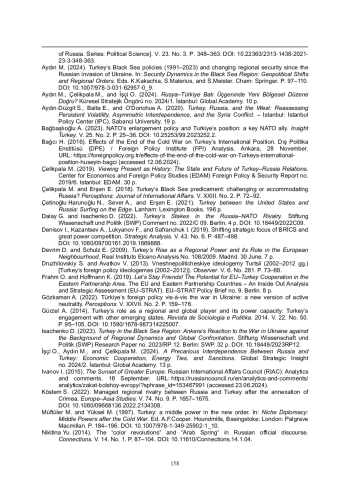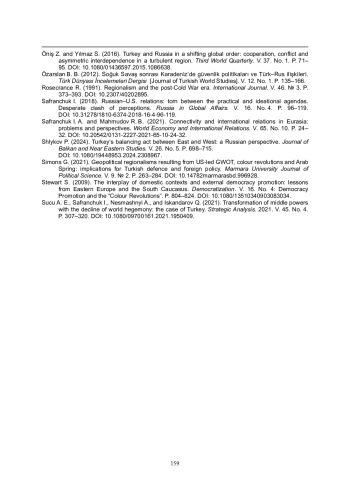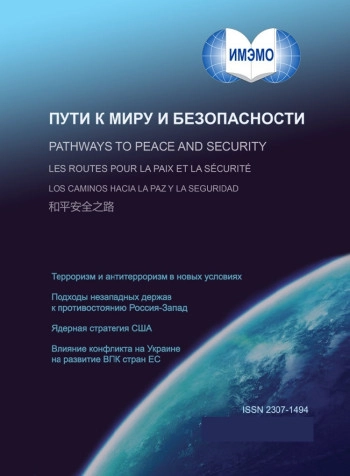Развал биполярного миропорядка после «холодной войны» и сложности в построении новой мировой системы привели к трансформации и адаптации внешнеполитических стратегий развивающихся «средних держав», в т. ч. Турции. В ходе этого процесса Турция проявила себе как одна из держав с наиболее явным стремлением к региональному лидерству, чему способствовали ее географическое положение и тесные отношения как со странами Запада, так и с Россией. Одной из основ стратегии развития Турции и ее региональных амбиций стал избранный ею сбалансированный, осторожный и прагматичный подход в условиях обостряющейся напряженности между Россией и Западом в так называемом ближнем зарубежье РФ и, прежде всего, в черноморском регионе. Тот факт, что Турция, с одной стороны, является членом НАТО и кандидатом на вступление в Европейский Союз, а с другой стороны, развивает обширные двусторонние отношения с Россией, делает стратегию Турции, принятую на фоне напряженности, переросшей в пока опосредованное военное противостояние между западными державами и Россией, важным предметом исследования в области международных отношений. В статье рассматриваются эволюция, перспективы и проблемы политики Турции, которую она проводит в свете событий, усиливших напряженность между Россией и западными державами на современном этапе, включая расширение НАТО и ЕС в сторону границ России, «цветные революции» в «ближнем зарубежье» России, конфликт между Россией и Грузией в 2008 г., протесты Евромайдана на Украине 2013–2014 годов, кризис вокруг Крыма 2014 г. и вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Исследование в основном базируется на анализе оценок турецких академиков и экспертов по внешней политике Турции, а также официальных материалов и дискурса высокопоставленных турецких политиков. В заключении подчеркивается растущее значение Турции для обеих сторон продолжающегося российско- украинского конфликта и более широкого противостояния между Россией и Западом. Сделан вывод о том, что, если в краткосрочной перспективе стратегия Турции в отношении растущей напряженности между Россией и Западом останется сбалансированной и прагматичной, то в среднесрочной перспективе она может измениться в пользу Запада, если удастся преодолеть проблемы взаимного доверия между Турцией и западными странами и если они поддержат Турцию в решении стоящих перед ней проблем в сфере безопасности.
The end of the bipolar world order following the Cold War and the challenges in constructing a new international system led developing middle powers such as Turkey to transform and adapt their foreign policy strategies. In this process, Turkey emerged as one of the significant actors with regional leadership aspirations, owing to its geographical location and extensive relations with both the Western powers and Russia. One of the key pillars of Turkey’s development efforts and regional ambitions has been its balanced, cautious, and pragmatic policies in the face of the gradually escalating tensions between Russia and the West in Russia’s near abroad, particularly in the Black Sea Region. Turkey’s NATO membership and its status as a candidate for the European Union membership, on the one hand, and its comprehensive bilateral relations with Russia, on the other, have made Ankara’s strategy, adopted amid the tensions that have extended to indirect military confrontation between Western powers and Russia, an important subject of study in international relations. This article examines the evolution, prospects, and problems of Turkey’s policies in light of the developments that have spurred tensions between Russia and Western powers, including NATO and EU expansion towards Russia’s borders, “color revolutions” in Russia’s “near abroad”, the 2008 Russia–Georgia conflict, the Euromaidan protests in Ukraine in 2013–2014, the 2014 Crimea crisis, and the armed conflict between Russia and Ukraine (backed by the West) since 2022. In order to explain the Turkish perspective, the research mainly relies on studies by Turkish academics and foreign policy experts and on analysis of Turkish official materials and discourse employed by high-level politicians. It concludes by emphasizing Turkey’s growing importance for both sides of the ongoing Russia Ukraine conflict in the region and the broader Russia–West confrontation. While Turkey’s strategy towards growing tensions between Russia and the West is expected to be pursued in balanced and pragmatic strategy in the short term, it has a potential to change in favor of the West in the mid-term, if Turkey and its Western allies solve their trust problem and if the West backs Ankara in addressing its security concerns.
Идентификаторы и классификаторы
После окончания холодной войны и распада Советского Союза биполярному мировому порядку пришел конец, и международная система вступила в период значительных преобразований.
Список литературы
1. Arı T. and Munassar O. (2020). Two stages of Turkey’s quest for a regional power status in the Middle East: an integrated role-status-seeking approach. Akademik Bakış. V. 14. No. 27. P. 1-29. DOI: 10.19060/gav.838831
2. Avatkov V. A. (2024). Turetskaya Respublika v 2023 godu [Republic of Türkiye in 2023]. Svobodnaya Mysl’ [Free Thought]. V. 1. No. 1703. P. 133-142.
3. Avatkov V. A. and Gudev P. A. (2021). Geopolitika rossiisko-turetskikh otnoshenii v Chernomorskom regione [Geopolitics of Russian-Turkish relations in the Black Sea region]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Politologiya [Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. Series: Political Science]. V. 23. No. 3. P. 348-363. DOI: 10.22363/2313-1438-2021-23-3-348-363 EDN: FDHWEO
4. Aydın M. (2024). Turkey’s Black Sea policies (1991-2023) and changing regional security since the Russian invasion of Ukraine. In: Security Dynamics in the Black Sea Region: Geopolitical Shifts and Regional Orders. Eds. K.Kakachia, S.Malerius, and S.Meister. Cham: Springer. P. 97-110. DOI: 10.1007/978-3-031-62957-0_9
5. Aydın M., Çelikpala M., and İşçi O. (2024).Rusya-Türkiye Batı Üçgeninde Yeni Bölgesel Düzene Doğru? Küresel Stratejik Öngörü no. 2024/1. İstanbul: Global Academy. 10 p.
6. Aydın-Düzgit S., Balta E., and O’Donohue A. (2020). Turkey, Russia, and the West: Reassessing Persistent Volatility, Asymmetric Interdependence, and the Syria Conflict. - Istanbul: Istanbul Policy Center (IPC), Sabanci University. 19 p.
7. Bağbaşlıoğlu A. (2023). NATO’s enlargement policy and Turkiye’s position: a key NATO ally. Insight Turkey. V. 25. No. 2. P. 25-36. DOI: 10.25253/99.2023252.2 EDN: BHCAGG
8. Bağcı H. (2016). Effects of the End of the Cold War on Turkey’s International Position. Dış Politika Enstitüsü (DPE) / Foreign Policy Institute (FPI) Analysis. Ankara, 28 November. URL: https://foreignpolicy.org.tr/effects-of-the-end-of-the-cold-war-on-Turkeys-international-position-huseyin-bagci (accessed 12.06.2024).
9. Çelikpala M. (2019). Viewing Present as History: The State and Future of Turkey-Russia Relations. Center for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) Foreign Policy & Security Report no. 2019/6. Istanbul: EDAM. 30 p.
10. Çelikpala M. and Erşen E. (2018). Turkey’s Black Sea predicament: challenging or accommodating Russia? Perceptions: Journal of International Affairs. V. XXIII. No. 2. P. 72-92.
11. Çetinoğlu Harunoğlu N., Sever A., and Erşen E. (2021). Turkey between the United States and Russia: Surfing on the Edge. Lanham: Lexington Books. 196 p.
12. Dalay G. and Isachenko D. (2022). Turkey’s Stakes in the Russia-NATO Rivalry. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Comment no. 2022/C 09. Berlin. 4 p. DOI: 10.18449/2022C09
13. Denisov I., Kazantsev A., Lukyanov F., and Safranchuk I. (2019). Shifting strategic focus of BRICS and great power competition. Strategic Analysis. V. 43. No. 6. P. 487-498. DOI: 10.1080/09700161.2019.1669888 EDN: YLPMJB
14. Devrim D. and Schulz E. (2009). Turkey’s Rise as a Regional Power and its Role in the European Neighbourhood. Real Instituto Elcano Analysis No. 108/2009. Madrid. 30 June. 7 p.
15. Druzhilovskiy S. and Avatkov V. (2013). Vneshnepoliticheskiye ideologemy Turtsii (2002-2012 gg.) [Turkey’s foreign policy ideologemes (2002-2012)]. Observer. V. 6. No. 281. P. 73-88. EDN: QANNYD
16. Frahm O. and Hoffmann K. (2019). Let’s Stay Friends! The Potential for EU-Turkey Cooperation in the Eastern Partnership Area. The EU and Eastern Partnership Countries - An Inside Out Analysis and Strategic Assessment (EU-STRAT). EU-STRAT Policy Brief no. 9. Berlin. 8 p.
17. Gözkaman A. (2022). Türkiye’s foreign policy vis-à-vis the war in Ukraine: a new version of active neutrality. Perceptions. V. XXVII. No. 2. P. 159-176.
18. Gürzel A. (2014). Turkey’s role as a regional and global player and its power capacity: Turkey’s engagement with other emerging states. Revista de Sociologia e Politika. 2014. V. 22. No. 50. P. 95-105. DOI: 10.1590/1678-987314225007
19. Isachenko D. (2023). Turkey in the Black Sea Region: Ankara’s Reaction to the War in Ukraine against the Background of Regional Dynamics and Global Confrontation. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Research Paper no. 2023/RP 12. Berlin: SWP. 32 p. DOI: 10.18449/2023RP12
20. İşçi O., Aydın M., and Çelikpala M. (2024). A Precarious Interdependence Between Russia and Turkey: Economic Cooperation, Energy Ties, and Sanctions. Global Strategic Insight no. 2024/2. İstanbul: Global Academy. 13 p.
21. Ivanov I. (2015). The Sunset of Greater Europe.Russian International Affairs Council (RIAC): Analytics and comments. 16 September. URL: https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/ analytics/zakat-bolshoy-evropy/?sphrase_id=153467991 (accessed 23.06.2024).
22. Köstem S. (2022). Managed regional rivalry between Russia and Turkey after the annexation of Crimea. Europe-Asia Studies. V. 74. No. 9. P. 1657-1675. DOI: 10.1080/09668136.2022.2134308 EDN: TGUUUA
23. Müftüler M. and Yüksel M. (1997). Turkey: a middle power in the new order. In: Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War. Ed. A.F.Cooper. Houndmills, Basingstoke; London: Palgrave Macmillan. P. 184-196. DOI: 10.1007/978-1-349-25902-1_10
24. Nikitinа Yu. (2014). The “color revolutions” and “Arab Spring” in Russian official discourse. Connections. V. 14. No. 1. P. 87-104. DOI: 10.11610/Connections.14.1.04 EDN: TXFGYR
25. Öniş Z. and Yılmaz S. (2016). Turkey and Russia in a shifting global order: cooperation, conflict and asymmetric interdependence in a turbulent region. Third World Quarterly. V. 37. No. 1. P. 71-95. DOI: 10.1080/01436597.2015.1086638 EDN: WUEBZH
26. Özarslan B. B. (2012). Soğuk Savaş sonrası Karadenı̇z’de güvenlı̇k polı̇tı̇kaları ve Türk-Rus ilı̇şkı̇lerı̇. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi [Journal of Turkish World Studies]. V. 12. No. 1. P. 135-166.
27. Rosecrance R. (1991). Regionalism and the post-Cold War era.International Journal. V. 46. № 3. P. 373-393. DOI: 10.2307/40202895
28. Safranchuk I. (2018).Russian-U.S. relations: torn between the practical and ideational agendas. Desperate clash of perceptions.Russia in Global Affairs. V. 16. No. 4. P. 96-119. DOI: 10.31278/1810-6374-2018-16-4-96-119 EDN: ZAZCLJ
29. Safranchuk I. A. and Mahmudov R. B. (2021). Connectivity and international relations in Eurasia: problems and perspectives. World Economy and International Relations. V. 65. No. 10. P. 24-32. DOI: 10.20542/0131-2227-2021-65-10-24-32 EDN: YGSHLT
30. Shlykov P. (2024). Turkey’s balancing act between East and West: a Russian perspective. Journal of Balkan and Near Eastern Studies. V. 26. No. 5. P. 698-715. DOI: 10.1080/19448953.2024.2308967
31. Simons G. (2021). Geopolitical regionalisms resulting from US-led GWOT, colour revolutions and Arab Spring: implications for Turkish defence and foreign policy. Marmara University Journal of Political Science. V. 9. № 2. P. 263-284. DOI: 10.14782marmarasbd.996928.
32. Stewart S. (2009). The interplay of domestic contexts and external democracy promotion: lessons from Eastern Europe and the South Caucasus. Democratization. V. 16. No. 4: Democracy Promotion and the “Colour Revolutions”. P. 804-824. DOI: 10.1080/13510340903083034
33. Sucu A. E., Safranchuk I., Nesmashnyi A., and Iskandarov Q. (2021). Transformation of middle powers with the decline of world hegemony: the case of Turkey. Strategic Analysis. 2021. V. 45. No. 4. P. 307-320. DOI: 10.1080/09700161.2021.1950409 EDN: LWKTHT
After the end of the Cold War and the dissolution of the Soviet Union, the bipolar
world order came to an end and the international system entered a period of significant
transformation and change.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Принятие военных решений Китаем во времена кризисов и конфликтов. Под ред. Р. Д. Кампхаузена. – Сиэтл: Национальное бюро азиатских исследований, 2023. 178 стр.
Автоссерр С. На переднем крае борьбы за мир: Руководство для внутреннего пользователя по изменению Мир. – Оксфорд: Оксфордский университет Издательство, 2021. 368 с.
Джамал А. С., Мэйли У. Упадок республиканского Афганистана. – Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2023. 352 стр.
Али А. М. Крах государства, расширение власти и баланс сил на Ближнем Востоке. – Чам: Пэлгрейв Макмиллан, 2023. 283 с.
Реальность единого государства: что такое Израиль/Палестина? Под ред. М. Барнетта, Н. Дж. Брауна, М. Линча, Ш. Телами. – Итака: Издательство Корнеллского университета, 2023. С. 372
“Газа: расследование причин ее мученичества” - это всеобъемлющее исследование американского политолога Нормана Финкельштейна, состоящее из четырех глав, каждая из которых посвящена военным действиям Израиля в секторе Газа, особенно во время операции “Литой свинец” (2008 2009) и “Нерушимая скала” (2014). Книга, первоначально опубликованная издательством Калифорнийского университета в 2018 году, была переиздана в 2021 году из-за ее значительного вклада в изучение израильско-палестинского конфликта. Хотя книга охватывает период времени, предшествовавший последней, нынешней эскалации кризиса в Газе в 2023-2024 годах, она показывает, что ни один из затронутых вопросов не является новым.
В статье исследуется эволюция военно-промышленного комплекса (ВПК) двух ведущих государств Европейского Союза - ФРГ и Франции - под влиянием украинского конфликта в 2022-2024 годах. Авторы рассматривают развитие ВПК на трех уровнях: доктринальном, экономическом (бюджеты и тенденции модернизации вооруженных сил) и промышленном (развитие ряда направлений военного производства). Показано, что Германия и Франция частично заимствуют опыт ведущихся боевых действий на Украине, но о полноценной трансформации их армий речи не идет. Изучение военных бюджетов и модернизации вооруженных сил двух стран демонстрирует увеличение военных расходов, а также рост закупок вооружений и военной техники и их модернизацию, но говорить о масштабном их наращивании также пока не приходится. Анализ развития ВПК двух стран по ряду ключевых направлений (средства противовоздушной оборон (ПВО), бронетехника, артиллерия, артиллерийские снаряды и авиация) подтверждает ранее обозначившиеся тенденции. Сделан вывод о том, что хотя по отдельным видам вооружений (бронетехника, ПВО, артиллерия) можно говорить об усилиях по наращиванию производств, в целом они носят «косметический», а не качественный характер. Наращивание масштабов производства идет медленно, поскольку в Берлине и Париже по разным соображениям пока не видят оснований для долгосрочных военных заказов. Выявлено, что, несмотря на совместные инициативы, Германия и Франция, скорее, разделяют специализацию, чем объединяют мощности в сфере ВПК.
Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе специальной военной операции РФ с 2022 г. приняло массовый характер с обеих сторон конфликта. В статье на базе открытых источников проведен обзор достаточно широкой номенклатуры тактических беспилотников, поставлявшихся США Украине в ходе военных действий в 2022-2024 годах. Рассмотрены основные тактико-технические характеристики, функции и сравнительные преимущества соответствующих систем БПЛА. Вооруженный конфликт на Украине позволяет США испытывать беспилотники в условиях реальных боевых действий, и некоторые типы американских БПЛА уже прошли или проходят модернизацию с учетом их применения в ходе военных действий на Украине. Хотя поставки тактических БПЛА из США на Украину в рассматриваемый период только расширялись, администрация Дж. Байдена воздерживалась от поставок тяжелых высотных и средневысотных беспилотников из-за возможных издержек принятия такого решения. Среди таких издержек в статье выявлены опасения США по поводу возможного получения российской стороны к чувствительным компонентам на беспилотниках в случае их захвата, серьезная инфраструктура, требующаяся для их развертывания, а также уязвимость таких БПЛА к атакам российских систем противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы, в т. ч. с учетом больших потерь среди тяжелых беспилотников турецкого производства.
В 2021 г. прекратилось действие большинства соглашений по контролю над вооружениями, что привело к серьезному кризису системы международной безопасности. Сложившаяся ситуация в значительной степени обусловлена действиями американской администрации президента Дж. Байдена. В статье исследуется политика США в области ядерных вооружений и стратегических сил в 2021-2024 годах и рассматриваются целесообразность и необходимость восстановления традиционного контроля над вооружениями. Анализируется экспертный потенциал и политические приоритеты администрации Байдена в этой сфере, а также ее планы, задачи и шаги по таким направлениям, как противоспутниковая угроза, ядерная модернизация и сдерживание, гиперзвуковое оружие. Сделан вывод о том, что, несмотря на первоначальные планы Дж. Байдена внести существенные корректировки в американскую стратегию в отношении ядерного оружия, в итоге курс его администрации по одному из ключевых направлений политики безопасности США существенно не отличался от линии предыдущей администрации Д. Трампа. Также оцениваются российско-американские отношения в сфере безопасности и контроля над ядерными вооружениями. Хотя Россия готова к диалогу по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности, а также по проблематике стратегических наступательных вооружений в том случае, если у США появится готовность учитывать законные российские озабоченности и ключевые интересы ее национальной безопасности, показано, насколько сложным окажется такой возобновленный переговорный процесс.
Начало конфликта на Украине изменило глобальный энергетический ландшафт, не только подтвердив сохраняющуюся значимость углеводородов для мировой экономики, но и подчеркнув важность ускоренного развития возобновляемых источников энергии для национальной энергетической безопасности. На этом фоне в статье рассматриваются вызовы и возможности для сотрудничества между Россией и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в условиях ускоряющегося четвертого энергетического перехода. Продолжающийся глобальный сдвиг в сторону возобновляемой энергетики несет значительные риски для экономик, зависящих от углеводородов, включая снижение спроса на нефть, усиление конкуренции в Азии и волатильность нефтяного рынка. В то время как страны ССАГПЗ используют текущие высокие цены на нефть для продвижения своих программ экономической диверсификации, долгосрочное ускорение энергетического перехода, особенно в Азии и Европе, требует дальнейшей адаптации. Активное участие России в ОПЕК+ и ее готовность координировать сокращение добычи подчеркивают стратегический характер этого партнерства, обеспечивая согласование интересов в смягчении последствий глобальных экономических сдвигов. Сделан вывод о том, что синергия между Россией и странами ССАГПЗ, основанная на общих уязвимостях и стратегических целях, может сыграть ключевую роль в преодолении неопределенностей глобального энергетического перехода, создавая основу для прочного экономического и геополитического сотрудничества. Также подчеркивается важная роль ОПЕК+ как платформы для сотрудничества между Россией и странами ССАГПЗ, позволяющей им стабилизировать цены на нефть и согласовывать стратегии для поддержания экономической устойчивости.
Работа содержит краткий анализ официальной позиции Китая по теме геополитического противостояния между Россией и странами Запада в 2022-2024 годах. На базе китайских первоисточников приводятся данные о развитии и изменении этой позиции в связи с событиями в период после начала специальной военной операции РФ по сравнению с предыдущим периодом. Сделан вывод о том, что за трехлетний период с 2022 г. «нейтралитет» КНР становился все более дружественным России. Также обрисованы основные точки зрения в экспертном сообществе Китая и в общественном мнении на российско-западное противостояние, роль в нем Китая и перспективы развития внешней политики страны в меняющихся геополитических условиях. Выявлены и показаны различия между официальным внешнеполитическим курсом Пекина и мнением ряда социальных групп и экспертов по российско-китайским и китайско-американским отношениям. Сделан вывод о том, что, несмотря на наличие в китайском общественном дискурсе двух полярных мнений по поводу российского-американского противостояния и роли в нем Китая, в целом баланс между ними постепенно смещается в сторону России.
В статье исследуются императивы, которые определяют позицию групп и сил, влияющих на принятие внешнеполитических решений в Индии, по украинскому кризису и усиленному им противостоянию по линии Россия-Запад. Последовательно анализируются восприятие украинского кризиса индийским обществом в целом и наиболее активной его частью - урбанизированным средним классом, экспертным сообществом и СМИ, а также военными, экономическими и политическими элитами. Отмечено, что начало конфликта оказалось шоком для всех социальных групп, рассматривавших Россию как дружественную Индии, но «угасающую» державу. Дефицит информации, отсутствие знаний о боеспособности и планах российской и украинской сторон привели к завышенным ожиданиям и последующему разочарованию. Выявлено постепенное изменение восприятия украинского конфликта в Индии по мере разрастания кризиса и ликвидации дефицита информации, а также его сравнительно незначительное влияние на внутриполитическую индийскую повестку. Сделан вывод о том, что ход конфликта на Украине вызывает наибольший интерес у военных и политических элит: если первые пытаются извлечь из него уроки, то вторые вынуждены прибегать к сложным маневрам на международной арене, пытаясь продолжать политику балансирования в условиях давления со стороны западных стран. Отказ индийского руководства от пассивной позиции в отношении украинского кризиса летом 2020 г. объясняется осознанием необходимости парировать вызовы, с которыми Индия сталкивается в экономической, внутри- и внешнеполитической сфере: возможный дефицит продовольствия, замедление программ развития в условиях сокращения прямых иностранных инвестиций, возможное снижение популярности премьер-министра Нарендры Моди и опасения в отношении растущей зависимости России от Китая.
Вспыхнувшая в октябре 2024 г. война между Израилем и «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС) в палестинском секторе Газа вызвала широкий резонанс далеко за пределами Ближнего Востока. Одним из отголосков конфликта стал рост угроз, связанных с террористическими и экстремистскими проявлениями в странах Европы. В частности, был зафиксирован значительный рост ксенофобских (прежде всего, антисемитских и исламофобских) проявлений; представители специальных служб европейских государств заявляли о возможности террористических атак, спровоцированных событиями в Газе. События в секторе Газа стали как индикатором общественных настроений в Европе, далеких от идей всеобщей толерантности, пропагандируемых европейским истеблишментом, так и катализатором межобщинных противоречий. В каком-то смысле то «послание», которое несут в себе теракты для европейских стран, также может служить своеобразным напоминанием для их обществ о конфликтах, прежде всего, на Ближнем Востоке. В этом контексте бросаются в глаза различия в подходах стран Европы к конфликтам на Украине и в секторе Газа. Если в первом случае руководство почти всех европейских государств заняло бескомпромиссную антироссийскую позицию, включая не только санкции против РФ, но и бойкот всего русского, то во втором случае, наблюдается двойственный подход к жестким действиям Израиля, которые привели и ведут к массовым жертвам среди гражданского палестинского населения. Ритуальные призывы из Европы к Израилю сократить ущерб для мирного населения нередко сочетаются с открытой поддержкой Израиля - словом и делом - в его противостоянии с ХАМАС. В статье исследуются потенциальные и реальные угрозы, связанные с активностью террористов в Европе в этом контексте. С точки зрения террористической угрозы для Европы, проводятся параллели между ситуацией, связанной с израильско-палестинским конфликтом, и событиями последних десятилетий в других регионах мира (в частности, вторжением в Ирак, антитеррористической операцией в Афганистане, войной в Сирии). При этом отмечаются различия между конфликтами, в которые непосредственно были или остаются вовлечены европейские страны, и войной в Газе, в которую Европа напрямую не вовлечена. На основе исследования террористических проявлений со стороны различных акторов, как внутренних, так и внешних для Европы, сделан вывод о том, что из них основную угрозу для европейских стран представляют собой саморадикализовавшиеся экстремисты-одиночки.
В статье рассматривается процесс эволюции терроризма в мусульманских регионах Юго-Восточной Азии (ЮВА). Его активизация связана с вовлечением местных радикалов в международные террористические сети, что приводит к изменению террористического ландшафта в Юго-Восточной Азии, с сопутствующим ростом насилия и экстремизма. Это отвечает запросу части мусульманской общины на создание исламского халифата в регионе, управляемого по законам шариата. В статье анализируются причины превращения ЮВА в один из эпицентров международного терроризма, что влечет за собой ответные контртеррористические действия, повлиявшие на изменение стратегии и тактики террористических группировок. Их трансформация исследуется на примере крупнейших террористических структур «Джемаа Исламия» и «Джамаат Аншаруд Дауля». Выявлено, что на современном этапе наблюдается определенная фрагментация и автономизация террористических организаций. Хотя это снижает угрозу совершения крупных терактов, исключать эту вероятность нельзя в условиях продолжающегося процесса радикализации и религиозной индоктринации части мусульманской общины, сохраняющей уверенность в использовании насилия в качестве средства создания исламского государства в ЮВА. Рассматриваются факторы, способствующие распространению этого идеологического нарратива у части мусульманской общины, включая особую роль интернета и социальных связей в ее саморадикализации. Наиболее уязвимой группой является молодежь. Решение о самороспуске «Джемаа Исламия» является критическим моментом в борьбе с терроризмом в Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, сделан вывод о том, что в условиях, когда основные социально-экономические и политические причины радикализации части мусульман не устранены, угроза терактов в регионе сохраняется на достаточно высоком уровне.
В конце 2023 г. в структуре Министерства обороны Российской Федерации было создано особое подразделение - Африканский корпус (АК). Создание корпуса ознаменовало новый этап африканской политики России. К созданию АК политическое руководство РФ и командование российской армии побудил ряд серьезных обстоятельств. Это, прежде всего, изменение геополитической ситуации на африканском континенте и быстрое падение влияния Франции в странах Центральной Африки. Оно сопровождалось сокращением военного присутствия Пятой республики в регионе - завершением военной операции «Бархан» и фактическим выдворением французского экспедиционного корпуса из зоны прежнего никем не оспариваемого доминирования в странах, которые некогда были частью французской колониальной империи. В условиях активизации террористических атак боевиков радикальных исламистских объединений на дружественные России государства Сахеля и Центральной Африки, по просьбе правительств этих стран российские специалисты из числа бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» приняли участие в борьбе с терроризмом и защите местного населения. Мятеж командования и части бойцов «Вагнер» в России сделал актуальной задачу замены относительно автономной ЧВК на подразделение российской армии, подчиненное единой политической воле и строгой военной дисциплине. Формирование АК призвано отстаивать геополитические и экономические интересы РФ на африканском континенте, содействовать противодействию терроризму и укреплению обороноспособности африканских стран, с которыми Россия заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве.
Сравнение «Исламского государства в Ираке и Сирии» (ИГИЛ) и батальона «Азов» – а также насильственного экстремизма салафитско–джихадистского толка и белого супрематизма/ультранационалистического экстремизма в целом – может показаться нетривиальным, так как их редко рассматривают вместе в рамках академического и экспертно-аналитического мейнстрима. Однако такое сравнение дает интересный ракурс для изучения не только потенциальных параллелей и сходств, но и различий между ними. Две террористические организации – ДАИШ и «Азов» – выбраны для анализа в этой статье, так как они являются одними из наиболее радикальных в своих идеологически-мотивационных категориях и выделяются по многим другим параметрам среди остальных вооруженных группировок в своих регионах – на Ближнем Востоке и в (Восточной) Европе, соответственно. И ИГИЛ, и «Азов» также стали ведущими региональными центрами притяжения для иностранных боевиков-террористов (ИБТ) и привлекли наибольший приток ИБТ в 2010-е годы. Примерно одновременно обе группировки также стали объектами крайней политизации на международном уровне. Цель статьи – дать обзор двух организаций и сравнить их, выявив аспекты и области сходства и расхождения, исследуя исторический контекст формирования этих группировок, как внутренний, так и региональный, а также их идеологические системы и использование ими иностранных боевиков.
Сделан вывод о том, что именно в плане масштаба конечных целей, повестки дня и деятельности между двумя организациями наблюдаются наиболее сильные различия. Если ИГИЛ продвигало наднациональные, религиозные императивы и идеологию и руководствовалось ими, то «Азов» был сфокусирован на национальном и региональном уровнях через призму ультранационализма. В то время как население воображаемого «халифата» ИГИЛ должно было состоять из «братьев и сестер в исламе», равных независимо от расы, национальности, возраста и т. д., то «Азов», напротив, продвигает четкую социальную и расовую иерархию, в основе которой лежит вера в то, что люди по своей природе неравны. Однако эти две группировки демонстрируют интересное сходство по ряду параметров, включая некоторые идеологические параллели. В обоих случаях группа «избранных» должна «подавать пример», просвещать и мобилизовать массы на достижение конечной цели, а концепция перманентной борьбы, не допускающей возможности поражения, лежит в основе обеих идеологических систем. Хотя конечные политико–идеологические цели двух организаций совершенно различны, для обеих характерно активное привлечение иностранных боевиков–террористов и применение многих схожих террористических тактик, включая убийства и пытки гражданских лиц и их использование в качестве «живого щита».
После вывода из Афганистана в 2021 г. иностранных войск и прихода к власти режима талибов* в стране наблюдался значительный спад терроризма вплоть до самого низкого уровня за два десятилетия. Этот спад объясняется как общим снижением интенсивности вооруженного конфликта в Афганистане, так и усилиями талибов по противодействию терроризму и обеспечению базовой функциональности государственной власти. На этом фоне основным источником террористических угроз в Афганистане оставался афганский филиал ИГИЛ** (ИГИЛ-Хорасан), который также связывают с крупнейшим в РФ за 20 лет терактом 22 марта 2024 г. в подмосковном Крокус-Сити Холле. В статье выявляются основные тенденции террористической активности ИГИЛ-Хорасан в 2020-е годы. Среди них особого внимания заслуживают дальнейшая религиозно-идеологическая радикализация движения, сдвиг центра его активности в Пакистан, его финансовый кризис, переход в подполье и активизация онлайн. Исследуются также основные направления противодействия ИГИЛ-Хорасан при талибах, включая специальные и силовые контртеррористические операции, противодействие идеологии салафизма и борьбу с финансированием терроризма. Сделаны выводы о том, что ответ талибских властей на вызов ИГИЛ-Хорасан оказался более оперативным и эффективным, чем ожидалось, и в целом антитерроризм в Афганистане к середине 2020-х годов стал приобретать системный характер. Проведенный анализ открытых источников и статистики показывает, что теракт в подмосковном Крокус-Сити Холле выпадает из общих тенденций террористической активности ИГИЛ-Хорасан (и в целом игиловских терактов разного типа и масштаба, направленных против РФ и ее граждан внутри страны и за рубежом). В отличие от подавляющего большинства терактов ИГИЛ-Хорасан, в данном нападении не прослеживалось явной мотивации, напрямую связанной с перипетиями вооруженной борьбы в Афганистане и приграничных с ним районах; непосредственные исполнители не отличались достаточно высокой степенью религиозной радикализации и индоктринации, типичной для большинства терактов ИГИЛ против РФ и т. п. Сделан вывод о том, что главными реальными целями теракта были провоцирование обострения политической ситуации, дестабилизация общественных настроений и подрыв социально-политической стабильности в России. В то же время подчеркнут многофункциональный характер теракта, за которым мог стоять конгломерат разных сил и интересов. Так, его «вторичные» цели могли включать попытку «напомнить» России об угрозах, исходящих из ее «южного подбрюшья», включая Афганистан и Центральную Азию, обострить эти вызовы, повлиять на действия РФ на южном фланге СНГ и спровоцировать корректировку российского курса по Афганистану. Если теракт в Крокус-Сити Холле и его последствия и сказались на афганской политике России, то лишь в пользу дальнейшего роста заинтересованности РФ в укреплении функциональности центральной власти и стабильности в Афганистане и в диалоге и сотрудничестве с его действующими властями, особенно по вопросам борьбы с терроризмом.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- ИМЭМО
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 117997, Москва, Профсоюзная ул., 23
- Юр. адрес
- 117997, Москва, Профсоюзная ул., 23
- ФИО
- Войтоловский Федор Генрихович (И.о. директора)
- E-mail адрес
- imemoran@imemo.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 1205236
- Сайт
- http://www.imemo.ru