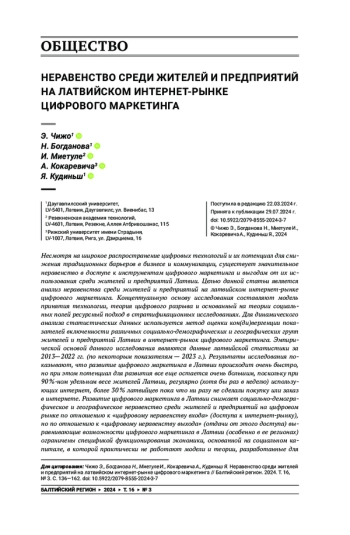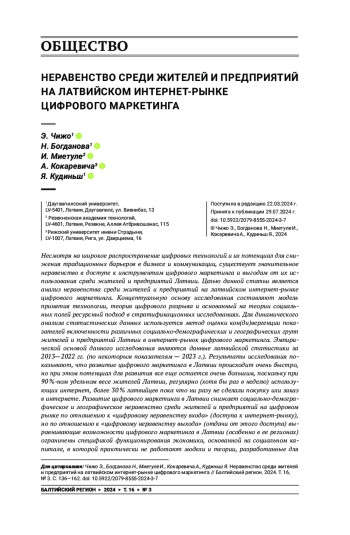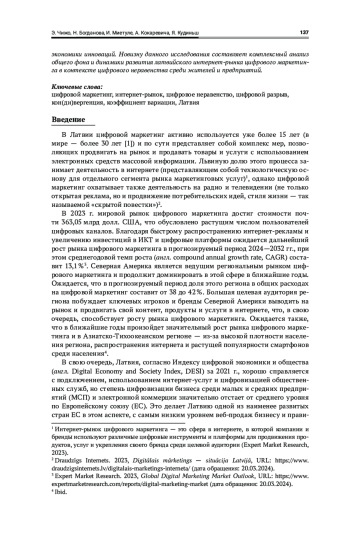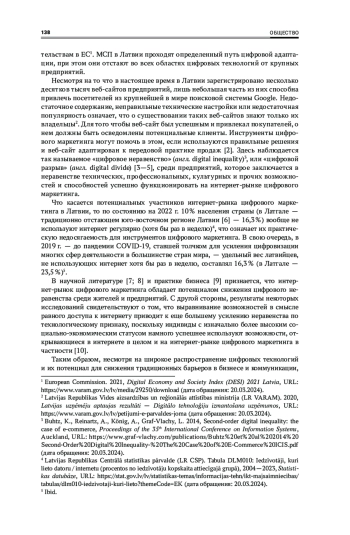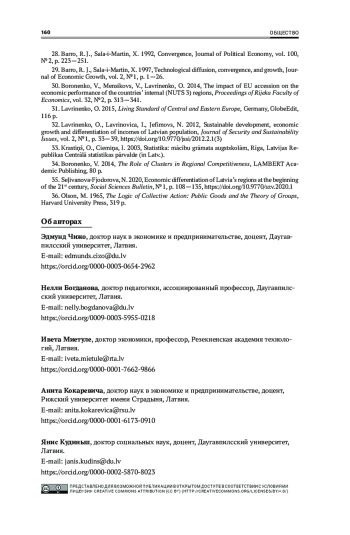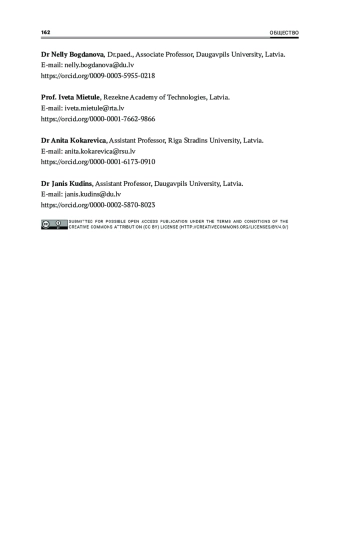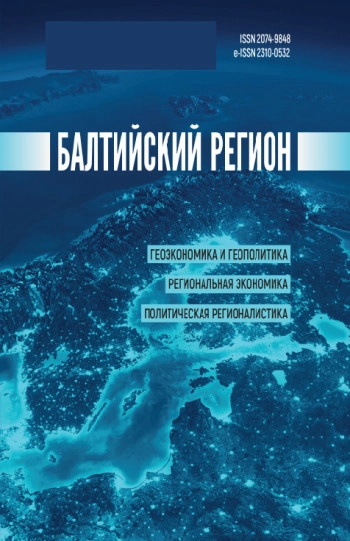Несмотря на широкое распространение цифровых технологий и их потенциал для снижения традиционных барьеров в бизнесе и коммуникации, существует значительное неравенство в доступе к инструментам цифрового маркетинга и выгодам от их использования среди жителей и предприятий Латвии. Целью данной статьи является анализ неравенства среди жителей и предприятий на латвийском интернет-рынке цифрового маркетинга. Концептуальную основу исследования составляют модель принятия технологии, теория цифрового разрыва и основанный на теории социальных полей ресурсный подход в стратификационных исследованиях. Для динамического анализа статистических данных используется метод оценки кон(ди)вергенции показателей включенности различных социально-демографических и географических групп жителей и предприятий Латвии в интернет-рынок цифрового маркетинга. Эмпирической основой данного исследования являются данные латвийской статистики за 2013-2022 гг. (по некоторым показателям - 2023 г.). Результаты исследования показывают, что развитие цифрового маркетинга в Латвии происходит очень быстро, но при этом потенциал для развития все еще остается очень большим, поскольку при 90 %-ном удельном весе жителей Латвии, регулярно (хотя бы раз в неделю) использующих интернет, более 30 % латвийцев пока что ни разу не сделали покупку или заказ в интернете. Развитие цифрового маркетинга в Латвии снижает социально-демографическое и географическое неравенство среди жителей и предприятий на цифровом рынке по отношению к «цифровому неравенству входа» (доступа к интернет-рынку), но по отношению к «цифровому неравенству выхода» (отдачи от этого доступа) выравнивающие возможности цифрового маркетинга в Латвии (особенно в ее регионах) ограничены спецификой функционирования экономики, основанной на социальном капитале, в которой практически не работают модели и теории, разработанные для экономики инноваций. Новизну данного исследования составляет комплексный анализ общего фона и динамики развития латвийского интернет-рынка цифрового маркетинга в контексте цифрового неравенства среди жителей и предприятий.
Идентификаторы и классификаторы
С помощью модели принятия технологии, работающей с субъективно воспринимаемыми пользователем полезностью и легкостью использования компьютерных информационных систем1 [17], можно объяснить появление у пользователя покупательского опыта на интернет-рынке цифрового маркетинга следующим образом: услуга заказа и доставки продуктов питания и товаров первой необходимости субъективно воспринята пользователем как полезная и легкая в использовании. Но причины успешного покупательского опыта в первом случае и совершенно неудачного во втором с помощью этой модели объяснить нельзя. Не работает здесь и методологическая установка на то, что различия в социально-экономическом статусе пользователей определяют их неравенство в использовании инструментов цифрового маркетинга2, поскольку как успешный, так и совершенно неудачный покупательский опыт являются достоянием одного и того же пользователя.
Список литературы
1. Weng, J. 2023, The evolution of digital marketing in the 21st century: three periods analysis, BCP Business & Management, № 38, p. 2041-2046,. DOI: 10.54691/bcpbm.v38i.4029 EDN: MFGMGZ
2. Davidavičienė, V., Raudeliuniene, J., Jonyte-Zemlickiene, A., Tvaronaviciene, M. 2021, Factors affecting customer buying behavior in online shopping, Marketing and Management of Innovations, № 4, p. 11-19,. DOI: 10.21272/mmi.2021.4-01 EDN: SJDPUK
3. Arbeláez-Rendón, M., Giraldo, D. P., Lotero, L. 2023, Influence of digital divide in the entrepreneurial motor of a digital economy: a system dynamics approach, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, vol. 9, № 2, 100046,. DOI: 10.1016/j.joitmc.2023.100046 EDN: BHYNSU
4. Compaine, B. 2001, The Digital Divide: Facing a Crisis or Creating a Myth?, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 236 p.,. DOI: 10.7551/mitpress/2419.001.0001
5. Dobrinskaya, D. Y., Martynenko, T. S. 2019, Perspectives of the Russian information society: digital divide levels, RUDN Journal of Sociology, vol. 19, № 1, p. 108-120, 10.22363/2313-2272-2019-19-1-108-120 (in Russ.). DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-108-120(inRuss.) EDN: VUHAGN
6. Voronov, V. V. 2022, Small towns of Latvia: disparities in regional and urban development, Baltic Region, vol. 14, № 4, p. 39-56,. DOI: 10.5922/2079-8555-2022-4-3 EDN: VHLBDU
7. Ali, R., Komarova, V., Aslam, T., Peleckis, K. 2022, The impact of social media marketing on youth buying behaviour in an emerging country, Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 9, № 4, p. 125-138,. DOI: 10.9770/jesi.2022.9.4(6) EDN: LJCUVO
8. Umit Kucuk, S. 2009, The evolution of market equalization on the Internet, Journal of Research for Consumers, № 16, p. 1-15.
9. Pellicelli, M. 2023, The Digital Transformation of Supply Chain Management, Elsevier,. DOI: 10.1016/C2020-0-02458-8
10. Ларина, Е. 2017, Понимание алгоритмических обществ. Гибридный интеллект и его зомби, Свободная мысль, № 5, c. 5-26. [Larina, Y. 2017, Understanding algorithmic societies. Hybrid intelligence and its zombies, Free Thought, № 5, p. 5-26 (in Russ.).]. EDN: ZXLCSP
11. Стыцюк, Р. 2020, Характерные черты и тренды развития цифрового маркетинга на российском рынке, Вестник Алтайской академии экономики и права, № 9 (1), с. 166-172, [Stytsiuk, R. 2020, Characteristics and trends of digital marketing development in the russian market, Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law, № 9 (1), p. 166-172, (in Russ.).]. DOI: 10.17513/vaael.1317 EDN: LJHBDS
12. Zhixian, Y. 2018, Introduction to marketing. In: Marketing Services and Resources in Information Organizations (A volume in Chandos Information Professional Series), Elsevier, p. 1-17,. DOI: 10.1016/B978-0-08-100798-3.00001-5
13. Masrianto, A., Hartoyo, H., Hubeis, A. V. S., Hasanah, N. 2022, Digital Marketing Utilization Index for evaluating and improving company digital marketing capability, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, vol. 8, № 3, 153,. DOI: 10.3390/joitmc8030153 EDN: TZYMOB
14. Varlamova, Y. A. 2022, Intergenerational digital divide in Russia, Mir Rossii, vol. 31, № 2, p. 51-74, 10.17323/1811-038X-2022-31-2-51-74 (in Russ.). DOI: 10.17323/1811-038X-2022-31-2-51-74(inRuss.) EDN: LMITQU
15. Dunlop, S., Freeman, B., Jones, S. C. 2016, Marketing to youth in the digital age: the promotion of unhealthy products and health promoting behaviours on social media, Media and Communication, vol. 4, № 3, p. 35-49,. DOI: 10.17645/mac.v4i3.522
16. Lase, K., Sloka, B. 2021, Digital inequalities in households in Latvia: problems and challenges, Contemporary Issues in Social Science, vol. 106, p. 355-366,. DOI: 10.1108/S1569-375920210000106022
17. Davis, F. D. 1989, Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS Quarterly, vol. 13, № 3, p. 319-340,. DOI: 10.2307/249008
18. van Dijk, J. 2006, Digital divide research, achievements and shortcomings, Poetics, № 34, p. 4-5,. DOI: 10.1016/j.poetic.2006.05.004
19. van Dijk, J. 2017, Digital divide: impact of access, in: Rössler, P., Hoffner, C. A., van Zoonen, L. (eds.), The International Encyclopedia of Media Effects, John Wiley & Sons, p. 24-49,. DOI: 10.1002/9781118783764.wbieme0043
20. Bourdieu, P. 2005, The Social Structures of the Economy, Wiley, 406 p.
21. Tikhonova, N. 2006, Resource approach as a new theoretical paradigm in stratification research, Sociological Studies, № 9, p. 28-41. (in Russ.). EDN: OYOAUH
22. Meņšikovs, V. 2009, Kopkapitāls un jaunatnes dzīves stratēģijas: sociologiskais aspekts, Sociālo Zinātņu Vēstnesis, № 2, p. 7-37, https://du.lv/wp-content/uploads/2022/11/SZV_2009_2.pdf (in Latv.).
23. Mensikovs, V., Kokina, I., Komarova, V., Ruza, O., Danilevica, A. 2020, Measuring multidimensional poverty within the resource-based approach: a case study of Latgale region, Latvia, Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 8, № 2, p. 1211-1227,. DOI: 10.9770/jesi.2020.8.2(72) EDN: WCIITI
24. Komarova, V., Mietule, I., Arbidane, I., Tumalavičius, V., Kokarevica, A. 2022, Resources and capital of different social classes in modern Latvia, Journal of Eastern European and Central Asian Research, vol. 9, № 3, p. 500-512,. DOI: 10.15549/jeecar.v9i3.861 EDN: VIPEVA
25. Seda, F., Setyawati, L., Pera, Y., Damm, M., Nobel, K. 2020, Social exclusion, religious capital, and the quality of life: multiple case studies of Indonesia and Thailand, Economics and Sociology, vol. 13, № 4, p. 107-124,. DOI: 10.14254/2071-789X.2020/13-4/7 EDN: NQJXNI
26. Meņšikovs, V., Lavrinoviča, I. 2011, Sociālās diferenciācijas tendences mūsdienu Latvijā, Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, Daugavpils, Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, p. 121-134 (in Latv.).
27. Barro, R. J., Sala-i-Martin, X. 1991, Convergence across states and regions, Brooking Papers on Economic Activity, № 1, p. 107-182.
28. Barro, R. J., Sala-i-Martin, X. 1992, Convergence, Journal of Political Economy, vol. 100, № 2, p. 223-251. EDN: BLXSDD
29. Barro, R. J., Sala-i-Martin, X. 1997, Technological diffusion, convergence, and growth, Journal of Economic Growth, vol. 2, № 1, p. 1-26. EDN: AJQKAJ
30. Boronenko, V., Mensikovs, V., Lavrinenko, O. 2014, The impact of EU accession on the economic performance of the countries’ internal (NUTS 3) regions, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, vol. 32, № 2, p. 313-341.
31. Lavrinenko, O. 2015, Living Standard of Central and Eastern Europe, Germany, GlobeEdit, 116 p.
32. Lavrinenko, O., Lavrinovica, I., Jefimovs, N. 2012, Sustainable development, economic growth and differentiation of incomes of Latvian population, Journal of Security and Sustainability Issues, vol. 2, № 1, p. 33-39,. DOI: 10.9770/jssi/2012.2.1(3)
33. Krastiņš, O., Ciemiņa, I. 2003, Statistika: mācību grāmata augstskolām, Rīga, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde (in Latv.).
34. Boronenko, V. 2014, The Role of Clusters in Regional Competitiveness, LAMBERT Academic Publishing, 80 p.
35. Seļivanova-Fjodorova, N. 2020, Economic differentiation of Latvia’s regions at the beginning of the 21st century, Social Sciences Bulletin, № 1, p. 108-135,. DOI: 10.9770/szv.2020.1
36. Olson, M. 1965, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, 319 p.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В результате продолжающихся процессов глобализации крупные города становятся все более притягательными для мигрантов и, как следствие, более полиэтничными по составу населения. Это делает все более актуальным изучение вопросов межнациональных отношений в условиях мегаполисов. Целью работы является рассмотрение особенностей пространственной локализации десяти национальных групп населения Санкт-Петербурга: украинцев, белорусов, татар, евреев, грузин, армян, азербайджанцев, узбеков, таджиков, молдаван. Посредством коэффициента этнической концентрации рассматривается территориальная неоднородность расселения крупнейших этнических диаспор города на предмет наличия избирательности в выборе места жительства. Главным источником сведений о национальном составе являются данные Всероссийских переписей населения. Для большинства национальных меньшинств присуще в целом равномерное расселение по территории города, но для еврейской и грузинской общин характерна повышенная концентрация в центральных районах Санкт-Петербурга. При этом миграционные ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19, не только снизили численность узбекской и таджикской диаспор, в значительной степени нормализовав их половозрастную структуру, но и способствовали более равномерному расселению представителей данных этнических групп по территории города. В настоящее время для большинства рассматриваемых этнических групп населения Санкт-Петербурга отсутствует пространственная зависимость между этнической концентрацией и уровнем социального благополучия.
Исследуется глобальный тренд начала 2020-х гг., связанный с секьюритизацией промышленных стратегий и курсом на технологическую самодостаточность / суверенитет (ТС) развитых и развивающихся стран в условиях геополитической фрагментации мировой экономики. Выявлены характерные черты этого процесса в контексте эволюции моделей промышленной политики. Рассмотрены параметры (мотивы, задачи, инструменты, риски) курса на ТС в странах Запада (ЕС и США) и у ведущих стран - участниц БРИКС (Китай, Индия, Бразилия). Показано, что страны Запада стремятся к продуктовой и технологической независимости от Китая при завоевании глобального лидерства в сфере полупроводниковых (США) и зеленых (ЕС) технологий; Китай - к центральному месту в мировой экономике при технологической независимости от Запада, а курс на ТС в Индии и Бразилии обусловлен структурными проблемами их экономик и рисками замедления роста. На этом фоне проанализирован курс на ТС в России: его логика, модель проектов, ограничения и риски реализации в условиях санкционного давления. Выявлены отличия российского курса от зарубежных аналогов и риски возрастания технологической зависимости России от Китая. Сделан вывод, что достижение ТС, диктуемое соображениями безопасности, может оказаться более трудной задачей, чем ожидают правительства всех типов стран.
В условиях современной конфронтации России и Запада процессы консолидации и дивергенции политических элит имеют фундаментальное значение для понимания механизмов образования разделительных линий между ними. В особенности это важно в отношении элит Европейского союза, противостоящего России. Цель статьи заключается в выработке структуры анализа разделительных линий элит ЕС по вопросам отношений с Россией. В ходе анализа применяется многоступенчатая модель, устанавливающая зависимость «глубины» разделительной линии от степени разобщенности элиты. Модель также включает два уровня анализа разделительных линий в ЕС: наднациональный и национальный. Исследование показало, что в зависимости от степени расхождения интересов и сохранения коммуникационных каналов дивергенция элит может приводить к сегментации, фрагментации или поляризации. Каждая из этих ступеней дивергенции по нарастающей фиксирует снижение возможности выработки общей позиции ЕС по вопросам внешней политики. В зависимости от уровня анализа элит в ЕС наблюдаются все три тенденции в отношении России. При этом в процессе формирования линии разрыва принципиальным является рассматриваемый аспект отношений с Россией: степень разрыва связей или поддержка и финансирование сдерживания России. Дополнительными переменными выступают такие факторы, как региональная принадлежность элиты, ее идеологические рамки и положение в рамках власти. Из всех уровней анализа поляризация намечается в рамках попытки наднациональных элит продвигать «воинственную интеграцию», что вступает в конфликт с интересами национальных элит и граждан стран-членов.
Методом количественного контент-анализа изучено содержание 63 стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, входящих в Российскую Балтику, с целью оценки степени проявленности в текстах «балтийского вектора» - сюжетов, обусловленных данным местоположением. Анализировались тексты стратегий, актуальных на февраль 2024 г. и разработанных в период 2010-2023 гг. На основе числа упоминаний 77 слов-маркеров рассчитаны индексы проявленности векторов (ИПВ). В формуле расчета ИПВ учитывалось абсолютное число упоминаний слов с корректировкой на значимость слов, которая определялась по частоте употребления и по месту в тексте стратегии. ИПВ рассчитаны для трех взаимосвязанных векторов: балтийского, европейского и глобального. Максимальные значения ИПВ зафиксированы в стратегии Калининградской области, что помимо объективных факторов обусловлено аномально большим объемом этой стратегии. Среди муниципальных образований лучшие показатели отмечаются у муниципальных образований Калининградской области (Калининград, Зеленоградский, Гусевский, Славский, Балтийский городские округа, Багратионовский муниципальный округ), а также у Пскова и Выборгского района Ленинградской области. Для Калининграда и Выборгского района проанализированы по две разновременных редакции стратегий, что позволило отметить изменения в объеме и характере рассмотрения балтийских сюжетов: стратегии становятся короче, балтийским сюжетам уделяется меньше внимания. Построена картосхема, иллюстрирующая разделение муниципальных стратегий на пять групп по каждому из векторов. Четко проявлена пространственная дифференция - среднее значение ИПВ по стратегиям ближнего круга Российской Балтики в 2,7 раза выше, чем по стратегиям внешнего круга.
Применен комплексный экономико-географический подход к исследованию обширной территории Европейской части России севернее Московской области, которую часто называют Ближним Севером. Новые вызовы требуют совершенствования Стратегии пространственного развития России. На примере макрорегиона показана возможность полимасштабного подхода к выявлению социально-экономических контрастов внутри регионов и взаимосвязанного развития их частей. Он включает рассмотрение тенденций динамики населения с 1990 по 2022 г., его миграций и занятости, инфраструктурного обустройства территории. Пространственный подход здесь особенно важен из-за природных различий внутри макрорегиона и пригородно-периферийных контрастов при повышенной роли центральных городов. Подробно рассмотрена восточная часть макрорегиона от Ярославской области до Кировской. Сжатие освоенного пространства и деградация некоторых необходимых условий жизни населения стали главными тенденциями постсоветского времени при организационных и экономических изменениях основных отраслей хозяйства. В статье показана специфика влияния региональных центров на территории разной степени удаленности от них. Особое внимание уделено изменению парадигмы сельскохозяйственного использования территории в новых институциональных и экономических условиях, усилению очаговости земледелия и последствиям концентрации животноводства. Работа основана на анализе статистической информации по муниципальным образованиям и опирается на активное использование карт. Выявление относительно успешных и наиболее проблемных территорий внутри столь обширного макрорегиона может помочь в разработке новых подходов к совершенствованию Стратегии пространственного развития России и ее регионов.
Исследование основано на концепции изоморфизма формальных (установленных законодательными актами) границ, то есть подобия их функций, в разных сочетаниях выполняемых границами разного статуса. Цель работы - изучить сходство основных функций формальных границ и их воздействие на хозяйство и повседневные практики населения на материале нескольких регионов России. В основе исследования - экспертные интервью и личные наблюдения, а также анализ стратегий социально-экономического развития регионов и муниципальных образований. С одной стороны, благодаря барьерной и конституирующей функции границы способствуют выравниванию социально-экономического ландшафта в своих пределах. С другой - те же функции усиливают контрастность различий между соседними территориями. К общим свойствам границ относится также способность притягивать или отталкивать определенные виды деятельности, порождать или усиливать периферийность прилегающих ареалов. Противоречие между континуальностью физического и социального пространства и барьерной функцией границ определяет «трансграничные» практики населения, генерирует товарные потоки и другие сходные по форме взаимодействия между соседними территориями. В свою очередь, взаимодействия диктуют необходимость юридически закрепленного сотрудничества между такими территориями для решения широкого круга трансграничных по своей природе проблем. Однако, такое сотрудничество существует практически только на межгосударственном уровне. На региональном и муниципальном уровне потребность в нем или не осознается, или отсутствует, даже если оно предусмотрено в документах стратегического планирования.
Статья посвящена актуализированной в последние годы в России проблематике пространственного социально-экономического развития. Рассмотрен феномен широкого вхождения понятия «развитие» в лексикон российских политиков, исследователей и СМИ. Приведены авторитетные научные суждения о развитии как о процессе изменений объектов и явлений без обязательной позитивной коннотации этой дефиниции. На примере внешнего регулирования антропогенных пространственных систем показано, что развитие должно прежде всего способствовать устойчивости функционирования этих систем с учетом потенциала их самоорганизации (саморазвития) и эквифинальности. Изложены соображения о генетической связи понятия «пространственное развитие» с достижениями мировой научной мысли в сфере экономической географии. Рассмотрены особенности пространственного развития и регионального развития как предметов стратегического планирования. Изложены соображения о возможностях корректной оценки результатов Стратегии пространственного развития по количественному выражению достижения ее целей (целевым показателям). Акцентировано внимание на том, что эти результаты в части региональных диспропорций и расселения необходимо сравнивать по сопоставимым группам регионов и макрорегионов (северные, центральные и южные регионы европейской части России, регионы Сибири, регионы Дальнего Востока, регионы Арктической зоны, республики Северного Кавказа), а демографических процессов - по группам населения (дети, молодежь, трудоспособное население, пенсионеры, мигранты). Соответствующие целевым показателям конкретные изменения в размещении производительных сил целесообразно дополнять и верифицировать оценками населения на основе ежегодно проводимых социологических опросов.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- БФУ
- Регион
- Россия, Калининград
- Почтовый адрес
- 236041, Россия, Калининград, ул. А. Невского, 14
- Юр. адрес
- 236041, Россия, Калининград, ул. А. Невского, 14
- ФИО
- Федоров Александр Александрович (Руководитель)
- E-mail адрес
- post@kantiana.ru
- Контактный телефон
- +7 (401) 2595595
- Сайт
- https://kantiana.ru