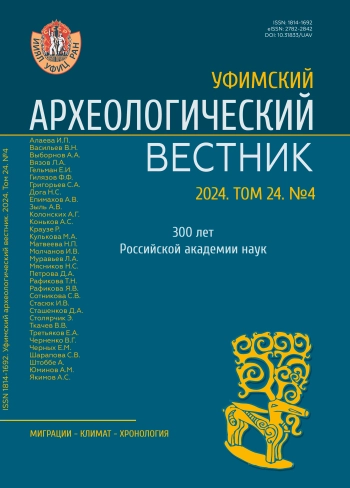В последнее время, в связи с появлением как новых материалов, так и новых калиброванных радиоуглеродных дат, происходит переосмысление многих процессов эпохи бронзы не только в Средней Азии, но и далеко за ее пределами. Материалы Раннего Тулхарского могильника (Южный Таджикистан) часто используются для доказательства активных контактов степного скотоводческого андроновского населения и оседлого земледельческого населения Средней Азии. С андроновским влиянием связывают прежде всего погребения с кремацией этого могильника. Е.Е. Кузьмина рассматривает их как археологическое доказательство ее гипотезы о миграции андроновского населения (индоариев) через Среднюю Азию (бишкентская культура) в Северо-Западный Пакистан (культура Свата) и Северную Индию. Новые материалы и новые калиброванные радиоуглеродные даты не позволяют связывать с андроновцами погребения с кремацией в Раннем Тулхарском могильнике. Федоровская культура Южного Урала, отличительной чертой которой являются погребения с кремацией, по последним данным датируется 1742–1451 гг. до н.э. Тулхарские погребения с кремацией, вероятно, появились гораздо раньше, по крайней мере, в конце III тыс. до н.э. Следует также поставить под сомнение миграцию населения бишкентской культуры на юг и его участие в формировании культуры Свата в Северо-Западном Пакистане. Вероятно, имел место обратный процесс. Автор считает, что появление могил с кремацией в Раннем Тулхарском могильнике можно объяснить продвижением отдельных небольших групп населения с территории Белуджистана (культура Кулли) или Северо-Западного Пакистана (культура Свата). Новые даты вносят изменение в понимание процессов, связанных с влиянием андроновской культуры на скотоводческие и земледельческие культуры эпохи бронзы Средней Азии. Появление могил с кремацией в могильниках сапаллинской культуры Средней Азии (Бустан VI, Джаркутан 4a) не следует однозначно рассматривать как результат влияния андроновского федоровского населения. Более того, учитывая тот факт, что отдельные группы андроновского населения регулярно проникали на территорию Средней Азии на всем протяжении существования андроновской КИО, можно предположить, что именно в Средней Азии следует искать истоки андроновского обряда кремации.
Идентификаторы и классификаторы
Материалы Раннего Тулхарского могильника (Южный Таджикистан) часто используются для
доказательства активных контактов степного андроновского населения и оседлого земледельческого населения Средней Азии. С андроновским влиянием связывают прежде всего погребения с кремацией этого могильника. Особенно широкое признание в отечественном андроноведении получила гипотеза Е.Е. Кузьминой, суть которой она кратко выразила в названии своей монографии «Арии – путь на юг» [Кузьмина, 2008].
Список литературы
- Аванесова Н.А. Погребальный обряд некрополя Бустон VI, как отражение межкультурных
взаимодействий // Культурный трансфер на перекрестках Центральной Азии: до, во время и после Великого Шелкового пути / Отв. ред. Ш. Мустафаев, М. Эспань, С. Горшенина, К. Рапэн, А. Бердимурадов, Ф. Гренэ. Париж; Самарканд: МИЦАИ, 2013. С. 27–34. - Aскаров А.А., Aбдуллаев Б.Н. Джаркутан (к проблеме протогородской цивилизации на юге Узбекистана). Ташкент: Фан, 1983. 120 с.
- Виноградова Н.М. Погребальный обряд культуры Свата (Северо-Западный Пакистан) // Проблемы интерпретации памятников культуры Востока / Отв. ред. Б.А. Литвинский. М.: Наука, 1991. С. 23–65.
- Виноградова Н.М. Юго-Западный Таджикистан в эпоху поздней бронзы. М.: ИВ РАН, 2004.
299 с. - Виноградова Н.М., Кутимов Ю.Г. Погребальные памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане (могильники Гелота и Дарнайчи). М.: ИВ РАН, 2018. 276 с. DOI: https://doi.org/10.31600/978- 5-89282-843-7 Доумани-Дюпюй П.Н., Фрачетти М.Д., Гермес Т., Гумирова О.Н., Марьяшев А.Н. Кремация, сельское хозяйство и ремесленное производство
на поселении бронзового века Тасбас (Семиречье) // История и археология Семиречья. Вып. 6 / Отв. ред. А.А. Горячев. Алматы: ИА им. А.Х. Маргулана, 2019. С. 85–100. - Кузьмина Е.Е. К вопросу о формировании культуры Северной Бактрии («Бактрийский мираж» и «археологическая действительность») // Вестник древней истории. 1972а. № 1. С. 131–147.
- Кузьмина Е.Е. Культура Свата и ее связи с Северной Бактрией (обзор работ итальянской археологической миссии в Пакистане) // КСИА. 1972б. Вып. 132. С. 116–121.
- Кузьмина Е.Е. Рецензия на: Dani А.Н. Excavations in the Gomal valley // Ancient Pakistan
(Bulletin of the Department of Archaeology, University of Peshawar, vol. V. 1970–1971. Special Number) // Народы Азии и Африки. 1974. № 2. С. 188–193. - Кузьмина Е.Е. К вопросу о формировании культурного комплекса могильника Кхерай //
КСИА. 1975. Вып. 142. С. 64–66. Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. М.; СПб.: Летний сад, 2008. 558 с. - Мандельштам А.М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане. Л.: Наука, 1968. 184 с. (МИА. № 145) Сарианиди В.И. Древние земледельцы Афганистана. М.: Наука, 1977. 172 с.
- Пьянкова Л.Т. Древние скотоводы Южного Таджикистана (по материалам могильника эпохи бронзы «Тигровая Балка»). Душанбе: АН ТССР, ИИ им. А. Дониша, 1989. 252 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Статья памяти Виталия Кимовича Фёдорова, археолога, историка, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника ИЭИ УФИЦ РАН, безвременная кончина которого 23 января 2024 года стала невосполнимой потерей для археологического сообщества России. Виталий Кимович был одним из лучших в России специалистов по археологии кочевников раннего железного века. Им написано более 100 научных работ, в том числе 2 монографии, где отражены результаты изучения предметов материальной культуры, духовного мира и хронологии ранних номадов, ставших весомым научным заделом для решения многих серьезных проблем их истории. Его экспедиционная жизнь вместила все полевые сезоны с 1987 по 2017 год. Виталий Кимович с 1990 по 1994 г. совместно с В.Н. Васильевым раскапывает более 30 курганов от эпохи бронзы до средневековья в некрополях Башкирского Приуралья и Зауралья, Центрального и Восточного Оренбуржья. Среди них могильники ранних номадов Яковлевские, Верхнекардаиловский II, а также курганы кочевой знати некрополя Сара. С 1997 по 2003 г. он заведует отделом археологии в НМРБ, где под его руководством были организованы десятки выставок, приведены в порядок археологические фонды. С 1995 по 2003 г. возглавляемая им археологическая экспедиция НМРБ исследовала более 20 памятников археологии. Среди них курганы эпохи бронзы и ранних кочевников некрополей Михайловский II, Селивановский II, каменные курганы ранних номадов Тупаковский, Чебаркуль II и т.д. С 2003 по 2018 г., перейдя на преподавательскую работу в Академии ВЭГУ, организовал работу археологической экспедиции, исследовавшей разрушенный курган Киишкинского могильника ранних кочевников в Приуралье и проводившей многолетние исследования поселения эпохи бронзы Ново-Байрамгулово-1 – святилища эпохи энеолита Бакшай в Башкирском Зауралье. Из-под его пера вышли три монографии и десятки статей по краеведению на основе исторических ис- следований собственной коллекции дореволюционных открыток. С 2019 г. до конца своих дней работал в ИЭИ УФИЦ РАН сначала заместителем директора по музейной деятельности, затем ведущим научным сотрудником. В этот период под его научной редакцией выпущены каталог предметов из раскопок Филипповских курганов 1986–1990 гг., сборник статей памяти А.Х. Пшеничнюка, издана монография в соавторстве с В.Н. Васильевым. Через три месяца после его смерти вышла в свет монография, посвященная дореволюционным открыткам Уфы и Уфимской губернии. Материал, полученный его экспедициями и научные произведения входят в золотой фонд сарматской археологии.
Статья представляет собой аналитический обзор отечественных и зарубежных научных публикаций последнего десятилетия, посвященных генетической истории населения севера и северо-востока Европы в последней четверти I – начале II тыс. н.э. Обобщены результаты всех значимых работ по археологической генетике, большая часть из которых опубликована в период 2017–2023 гг. Приводятся количественные данные по задействованным в исследованиях образцам и ключевые выводы, полученные различными исследовательскими группами. Рассмотрены генетические данные по следующим темам: формирование генофонда северной и северо-восточной Европы до эпохи викингов; изменение генофонда Скандинавии в эпоху викингов и его влияние на генофонд других территорий; изменение генофонда северо-западной и северо-восточной Руси в период славянского расселения и экспансии викингов; специфика генофонда Финляндии; генетическая история населения после окончания эпохи викингов. Выводы генетиков рассматриваются в историческом контексте, делается попытка их исторической интерпретации в соответствии со свидетельствами письменных и археологических источников. Источниковедческий потенциал собственно генетических данных различается. Наиболее информативны широкогеномные популяционно-генетические исследования, сочетающие анализ аутосомных и однородительских маркеров (Y-хромосома, мтДНК). Однако для некоторых из рассматриваемых территорий широкогеномные исследования пока не проводились либо выполнены на единичных образцах. В этих случаях выводы делались на основании изучения однородительских маркеров. Для ряда ключевых территорий и археологических культур Балтии и Восточной Европы генетические данные полностью отсутствуют. Неравномерная изученность обуславливает наличие обширных белых пятен на генетической карте. Авторы считают геномные данные новым важнейшим историческим источником, работа с которым открывает перспективы для разрешения старых и постановки новых проблем в изучении древней и средневековой истории. В то же время археогенетика является молодой наукой, находящейся на стадии накопления материала, поэтому ее выводы не должны приниматься историками безоговорочно.
В Отделе археологических памятников Государственного Исторического музея хранится обширное собрание памятников с территории Средней Азии. Среднеазиатские коллекции разделены между тремя секторами отдела: сектором археологии каменного и бронзового веков (А), сектором археологии раннего железного века и раннего средневековья (Б) и сектором средневековой археологии (В). В статье дан обзор коллекций сектора В, которые поступали на протяжении XIX–XX вв. от частных лиц (историков, музейных работников, краеведов и пр.), археологов, научных организаций и обществ. Сегодня в распоряжении исследователей древности V в. до н.э. – XVI–XVII вв. География обнаруженных изделий охватывает территории современных Узбекистана, Туркмении, Афганистана, Ирана, Казахстана и Таджикистана. Данная публикация призвана продемонстрировать пути формирования наиболее мас-
штабных средневековых коллекций в музее, так как изучение истории формирования музейных фондов не только является неотъемлемой частью истории науки, но и закладывает основу для публикации музейных памятников. Степень изученности коллекций различна. Отдельные предметы и коллекции памятников ранее становились объектом изучения исследователей, но большая часть фонда еще требует введения в научный оборот. Одной из наиболее примечательных особенностей коллекции является ее масштабность, что приводит к особому интересу к истории формирования фонда, активную роль в складывании которого сыграл ряд выдающихся личностей: коллекционеры А.П. Бахрушин и П.И. Щукин, археологи Д.Д. Букинич, М.В. Воеводский, А.И. Тереножкин и С.П. Толстов. Работа проведена на основе анализа Главной инвентарной книги Исторического музея, коллекционных описей и предметов фонда Средней Азии сектора средневековой археологии отдела археологических памятников.
История систематических мореплаваний населения западного побережья Японского моря началась уже в раннем железном веке. Племена, жившие на берегу моря, нередко осуществляли пиратские набеги даже на Японские острова. Сформировавшееся в этом регионе в конце VII в. государство Бохай рассматривалось его соседями как «великое поморское государство». Оно имело выход к Японскому морю, к Западно-Корейскому, Восточно-Корейскому, Ляодунскому и Бохайскому заливам. Искусство мореплавания у бохайцев сыграло важную роль на всех этапах истории государства, в его экономике и международных связях. Крупные реки Сунгари, Ляохэ, Муданцзян, Уссури, Раздольная, Туманная и др. являлись основными путями сообщения внутри государства и с соседними народами. Первый бохайский король установил дипломатические отношения с японским императором и наладил постоянный обмен посольствами, которые носили в большой степени экономический характер. Одна из главных дорог в Бохае называлась «дорога в Японию». Ее морской отрезок начинался от стен порта Янь- чжоу (Краскинское городище) в заливе Посьета (Россия) на побережье Японского моря. Морские маршруты бохайских торговцев пролегали также вдоль берегов Корейского полуострова и Южного Китая. В Японии и Китае для торговцев и посольских людей были построены гостевые дома. Разнообразная продукция из корейских государств и Танского Китая доставлялась морем в бохайские порты и морские поселения, а также распространялась в его континентальной части по крупным рекам. Бохайцы активно добывали морские и речные ресурсы, которые служили также объектами обменов населения в местной и региональной торговле.
В статье публикуются новые находки металлических украшений с изображением водоплавающей птицы (утка) из погребений раннего памятника поломской археологической культуры в бассейне р. Чепца. Украшения выполнены в разных стилевых традициях и имеют узкий хронологический период бытования (VI–VII вв.). С учетом особенностей погребального обряда могильника (ингумации и кремации), вещевых комплексов и аналогий автор рассматривает информативные возможности данной категории артефактов для решения вопросов происхождения населения севера Удмуртии в раннесредневековое время. Орнитоморфные пронизки-подвески Балезинского могильника относятся к двум стилистическим традициям – западной и восточной. Ближайшие аналогии балезинским украшениям, в которых угадывается синкретичный образ утки-коня, выявлены на Вятке и в Среднем Поволжье; второй образ – утки-лося – определяют восточные (позднехаринские) импульсы. В погребальных комплексах с зооморфными пронизками-подвесками встречен инвентарь, характерный для наборов женских украшений VI–VII вв. как из могильников Западного Предуралья (Верх-Сая, Бирск, Петропавлово), так и некрополей круга Концовского – Тат-Боярского – Шор-Унжинского – Коминтерновского II. Появление на Чепце обеих групп орнитоморфов связано с миграциями различных этнокультурных групп – носителей разных мировоззренческих систем. Их продвижение в верхнее течение р. Чепцы: первый путь – с юга, с Волги и Нижней Камы, по Вятке; второй – через таежные области Верхнего Прикамья.
В статье характеризуется одна из категорий артефактов именьковской культуры Среднего Поволжья III–VII вв. н.э. – костяные амулеты-натуралии. Эта категория находок в именьковских памятниках представлена костями различных диких и домашних животных, снабженными отверстиями (для подвешивания или крепления к одежде). Вероятнее всего, амулеты, выполненные из костей диких животных, связаны с ритуалами, использовавшимися в охотничьей магии. Астрагалы домашних животных (КРС, МРС, свинья) могли использоваться как гадальные/игральные кости (бабки, альчики). Видовой состав диких животных, из костей которых изготавливались амулеты, по-видимому, имел этнокультурное значение. Так, амулеты из таранных костей бобра и клыков медведя в раннем средневековье имели широкое распространение по всей лесной зоне Европы от Урала до Прибалтики, половинки челюстей куниц в значительном количестве найдены на памятниках Приуралья, в то время как кости конечностей зайцев известны в составе набора амулетов кочевнических погребений. Набор амулетов-натуралий населения именьковской культуры, включающий в себя все эти элементы примерно в равных долях, отражает контакты различных групп населения, происходившие на территории юга лесной и лесостепной зон Поволжья в эпоху Великого переселения народов.
В статье проводится анализ сооружений раннего средневековья внешней фортификационной линии Усть-Терсюкского городища на р. Исеть по материалам раскопок 2010 и 2023 гг. Укрепленное мысовое поселение окружено защитной линией по периметру и двумя поперечными, отсекающими мыс от оврагов, образующими две площадки – пятиугольной и восьмиугольной формы. Установлено, что крепостное сооружение пережило не менее четырех периодов функционирования, отделенных друг от друга интервалами запустения в несколько веков, в течение которых начинали формироваться профили погребенной почвы. Два начальных эпизода связаны с бакальской культурой и датированы IV–V вв., когда самую высокую часть эскарпировали по всему периметру и закрыли частоколом как временной линией до завершения земляных работ. Затем частокол был разобран и заменен низким валом с бермой шириной 2 м и рвом, проложенным по склонам. В VI–IX вв. бакальским же населением линия увеличена досыпкой и надстроена бревенчатой стеной шириной 1,1 м, заполненной грунтом с жилой площадки. Различия в конструкции стены на стрелке мыса (забор) и западном фланге (бревенчатый каркас) может указывать на их асинхронность или трудности в доставке материалов. Ров отнесен вниз по склону, берма увеличена до 5,5 м. В XII–XIII вв. (юдинская культура) ров по периметру был подновлен, но характер работ на валах не ясен, их еще предстоит исследовать. Каждый новый эпизод строительства отличается увеличением трудозатрат и документирован следами обстрелов. В бакальское время почвы были луго- во-черноземные, а условия более теплые, влажные, связанные с близким протеканием ручьев, позднее – прохладные, с образованием темно-серой лесной почвы.
Рассматриваются данные, полученные в ходе изучения фортификационных сооружений Уразгильдинского городища (Татышлинский район Башкортостана). Основным археологическим материалом, обнаруженным в ходе раскопок, является керамика, которая позволяет датировать культурный слой и сооружения в широком диапазоне IV–VIII вв. н.э. и отнести памятник к бахмутинской культуре. Сами укрепления, вероятно, использовались недолго. В ходе проведенных исследований были изучены фортификационные сооружения, которые представляли собой дерево-земляную конструкцию в виде стены перекладного (крюкового) типа. Бревенчатая стена городища укреплялась вертикальными столбами. Укрепления были плотно забутованы грунтом. Многочисленные следы горения и воздействия высоких температур (уголь, прокалы, запекшаяся глина) свидетельствуют, что изученные сооружения были уничтожены пожаром, однако следов военного столкновения в ходе исследований не выявлено. Специфика выбора площадки строителями городища характеризуется использованием естественного рельефа местности –этот признак присущ для большинства городищ бахмутинской культуры. Примечательным оказывается то, что укрепления имели прямоугольную в плане конструкцию, что не является традиционным для памятников Южного Предуралья. Аналогии подобных конструкций на территории Уфимско-Бельского междуречья отсутствуют. Реконструкция исследованных сооружений даёт возможность предполагать их высокую фортификационную мощность, что также характеризует большинство известных укреплений бахмутинской культуры. Полученные результаты позволяют в значительной степени расширить современные представления об архитектурно-строительных и оборонительных традициях населения Южного Предуралья эпохи раннего средневековья.
В работе представлены результаты электроразведки неукрепленного поселения алакульской культуры Звягино-4 (XVIII–XVII вв. до н.э.) в лесостепной части Южного Зауралья. С использованием методов тахеометрической съемки, создания цифровой модели поверхности и метода электромагнитного профилирования (задействована аппаратура электромагнитного частотного зондирования АЭМП-14) исследована площадка памятника бронзового века. По результатам электромагнитного профилирования были получены карты кажущегося электросопротивления в зависимости от частот, соответствующие разной глубине излучения. По результатам обработки данных были получены три карты: по модулю и по двум компонента (X – квадратурная составляющая, на нее влияют магнитные свойства грунта и Y – синфазная составляющая, на нее влияет электропроводность) для глубин от 0,7 до 5,6 м от современной поверхности. По синфазной компоненте были выявлены наиболее значимые результаты: на верхних глубинах проявились контуры площадки сложной геометрической формы. По совокупности данных, эту площадку можно связать с локализацией культурного слоя (зольника) и местом возведения построек бронзового века. Опыт проведения электроразведки на неукрепленном поселении алакульской культуры Звягино-4 позволил предложить гипотетическую реконструкцию планировки поселка бронзового века, состоящего из 5 строений в два параллельных ряда. Уточнить границы и площадь застройки поселка (1700 м2). Примечательно, что проблема разграничения площади застройки и площади освоенного пространства на материалах неукрепленных поселений пока еще не ставилась. Несмотря на недостаточную разработку методики интерпретации использованного нами метода, опыт применения электроразведки к археологическим объектам можно признать положительным.
Представлены результаты изучения погребений кожумбердынской культурной группы позднего бронзового века Уральско-Мугоджарского региона, содержащих в составе инвентаря украшения из благородных металлов. Объектом исследования стали 13 погребений в 9 надмогильных сооружениях (6 курганов и 3 ограды) в составе трех могильников (Ушкаттинский I, Аралча II, Ишкиновка III), содержавших 34 предмета из золота и серебра. Их радиоуглеродный возраст установлен в интервале 1740–1260 гг. до н.э. Археометрические исследования свидетельствуют о высоком уровне развития металлургии и металлообработки носителей кожумбердынского культурного комплекса, регулярном использовании двух и более металлов, сложных многокомпонентных сплавов. Металлопроизводственная деятельность осуществлялась на основе собственной минерально-сырьевой базы, включая региональные источники золота и серебра. Значительная степень стандартизации технологических операций изготовления украшений, унификация морфологических параметров, широкое применение техники плакировки украшений благородными металлами, их орнаментация чеканными рисунками позволяют предполагать обособление ювелирного дела в кузнечном промысле. Благородные металлы использовались для изготовления трубчатых колец и желобчатых подвесок в полтора оборота, употреблявшихся в качестве ушных украшений. Палеоантропологические данные подтвердили, что в погребальном обряде украшения из благородных металлов характерны для захоронений женщин репродуктивного возраста. В индивидуальных и парных разнополых погребениях украшения из драгоценных металлов сопровождают только женщин. Прямых свидетельств их принадлежности к категории личностных лидеров и представителей элиты не отмечено, что подчеркивает эгалитарность кожумбердынского общества и значимость половозрастных субструктур. К числу экстраординарных следует отнести парные захоронения обращенных лицом друг к другу женщин, сопровождавшихся украшениями из благородных металлов, что может быть связано с погребениями сиблингов.
В вопросе о расхождении результатов радиоуглеродного датирования по разным технологиям среди исследователей нет единства: от его полного отрицания до предположений об удревнении или омоложении и сужении интервалов ускорительных дат. Работа презентует результаты сравнительного анализа двух серий радиоуглеродных дат одного кургана. Первая (n=19) получена в рамках жидкостно-сцинтилляционной технологии (LSC), вторая (n=29) – методом ускорительной масс-спектрометрии (AMS). Срубно-алакульский курган 1 могильника Неплюевский исследован в степной зоне Южного Зауралья. Материалом для датирования стал коллаген костей 31 человека. Соотношение азота и углерода в коллагене этих индивидов не указывает на влияние резервуарного эффекта. Диаграмма размаха некалиброванных значений не выявила статистических выбросов в пределах серий. Байесовское моделирование в рамках однофазной модели позволило диагностировать наличие/отсутствие статистических выбросов калиброванных интервалов, оценить хронологические границы и длительность функционирования кургана для каждой серии. Хронология кургана в рамках LSC-серии укладывается вXX – середину XVIII в. до н.э., для AMS-серии – это середина XIX – начало XVII в. до н.э. Максимальная длительность оценена в 167 лет и 34 года соответственно. Из 12 погребений, снабжённых разнотипными датировками, только четыре демонстрируют совпадение результатов калибровки. Таким образом, результаты использования разных технологий радиоуглеродного датирования значительно отличаются. Потенциальное объединение серий формирует нереалистичную картину истории функционирования погребального комплекса. Предпочтение в данном случае должно быть отдано AMS-датировкам, формирующим при моделировании узкий интервал. Основанием для такого вывода являются результаты анализа палеоДНК: среди 32 индивидов выделено 3 поколения родственников, что указывает на краткость формирования некрополя.
Известной проблемой археологической хронологии является то, что радиоуглеродная хронология отличается от исторической. Вторым ее существенным недостатком являются чрезвычайно широкие доверительные интервалы, если использовать даты, рассчитанные с высокой вероятностью. Историческая хронология бронзового века соответствует дендрохронологии и радиоуглеродной хронологии в случае использования байесовской статистики AMS дат. Поэтому хронологию культур Северной Евразии желательно связать на основе типологического анализа с хронологией тех регионов, где есть возможность использования исторической и дендрохронологии. Но из-за удаленности выстроить надежные типологические ряды сложно, и эта процедура тоже дает слишком широкие вероятностные интервалы. Поэтому необходимо опираться на культуры, которые сформировались в результате миграций, вызванных климатическими катастрофами глобального масштаба. В этих случаях мы в состоянии синхронизировать удаленные друг от друга культурные трансформации. В первую очередь, речь идет о масштабных вулканических процессах. Наиболее четко такие события проявляются в древесных кольцах различных регионов, что позволяет получить дату с точностью до года. Вторым источником являются данные гляциохронологии, хотя не для всех периодов они достаточно точны. Наконец, третьей группой данных являются исторические хронологии. Применение этого подхода позволило предложить реперы для построения хронологии Евразии для III–II тыс. до н.э., которые позволяют построить систему с более молодыми и короткими интервалами, чем радиоуглеродный анализ. Особенно успешно применение этого метода к периоду синташтинской культуры и начала развитого алакульско-срубного этапа, где использование независимых друг от друга данных (гляциохронология, исторические хронологии Египта, Месопотамии и Китая, дендрохронологии Альп, Анатолии и США) дают согласованные результаты.
Волго-Уралье привлекает внимание специалистов в связи с распространением на этой территории хвалынской культуры эпохи энеолита. Археологи выдвигали автохтонные, миграционные и комбинированные гипотезы. Полученные исследователями результаты антропологических и палеогенетических анализов продвинули разработку генезиса последней. Они связаны с определением компонентов, которые составили основу хвалынских племен данного региона. Изыскания в области естественных наук установили два компонента: северные и южные охотники. Перед археологами возникла проблема культурной атрибуции этих субъектов. Анализ керамического и каменного инвентаря позволяет представить следующую ситуацию. В результате ухудшения климатических условий носители раннего этапа нижнедонской культуры мигрировали на территорию Северного Прикаспия. Данные о скотоводстве у их носителей отсутствуют. Они располагали такими новациями как гребенчатая система орнаментации сосудов, бифациальная обработка наконечников и вкладышевая техника. Взаимодействие с местными поздненеолитическими (тентексорскими) группами привели к сложению в последней четверти VI тыс. до н.э. прикаспийской культуры. Для субстратной основы присущи мотивы и композиции, которые станут характерными для пришельцев. Доказательств наличия производящего хозяйства у тентексорского населения нет, а у носителей прикаспийской культуры лишь появляются признаки скотоводства. Именно последние могут быть атрибутированы как южные охотники. Аридизация вынудила их продвинуться до границы степи и лесостепи Поволжья. Здесь произошли взаимные контакты с местной неолитической средневолжской культурой. Данный процесс способствовал формированию самарской культуры. Суперстратный компонент привнес в последнюю воротничковое оформление сосудов, бифациальность и формы наконечников, вкладышевую технологию. Эти представители могут рассматриваться как северные охотники. Учитывая, что средневолжская культура восходит к более ранней елшанской, этот компонент имеет устойчивую местную традицию. Кавказские элементы в материалах неолита и энеолита почти не фиксируются. Новые данные позволяют отдать предпочтение в миграционных процессах не типу хозяйства, а климатическим факторам. Они приводили к подвижкам отдельных групп и в период функционирования хвалынской культуры.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- УФИЦ РАН
- Регион
- Россия, Уфа
- Почтовый адрес
- 450054, Республика Башкортостан, Г.О. город Уфа, Пр-кт Октября, д. № 71
- Юр. адрес
- 450054, Республика Башкортостан, Г.О. город Уфа, Пр-кт Октября, д. № 71
- ФИО
- Мартыненко Василий Борисович (Руководитель)
- E-mail адрес
- presidium@ufaras.ru
- Контактный телефон
- +7 (347) 2356022
- Сайт
- http://www.ufaras.ru