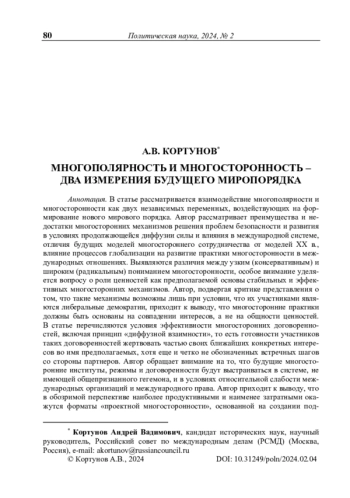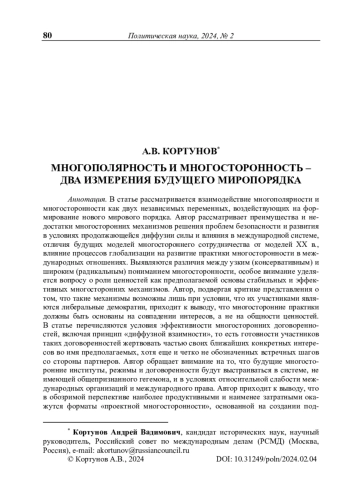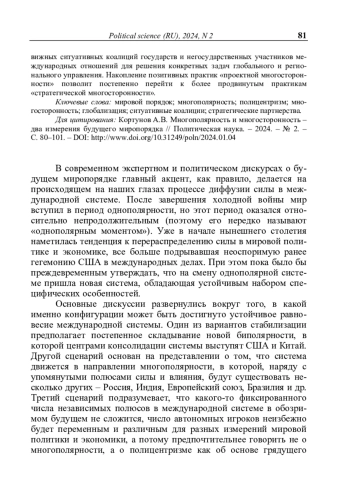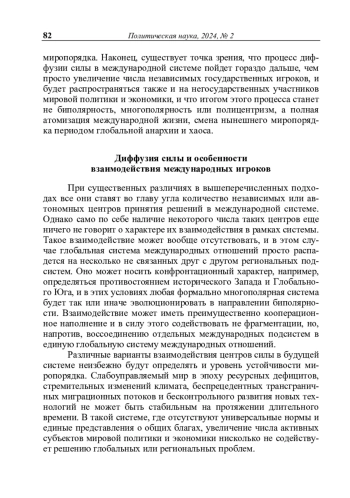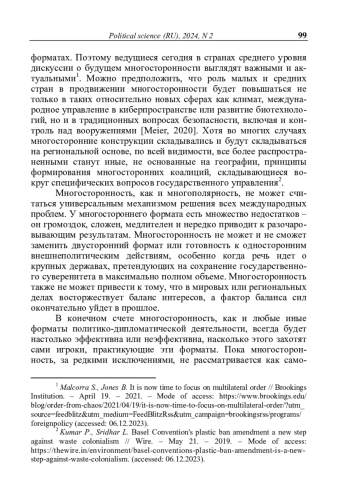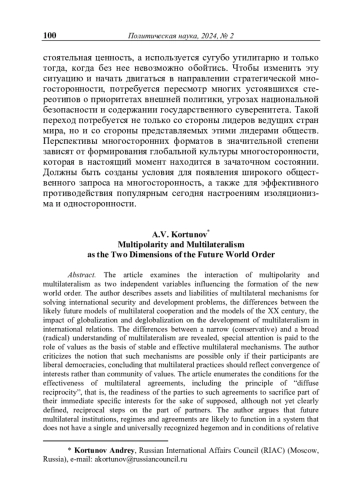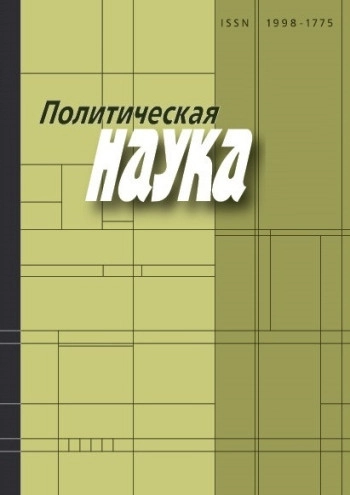В статье рассматривается взаимодействие многополярности и многосторонности как двух независимых переменных, воздействующих на формирование нового мирового порядка. Автор рассматривает преимущества и недостатки многосторонних механизмов решения проблем безопасности и развития в условиях продолжающейся диффузии силы и влияния в международной системе, отличия будущих моделей многостороннего сотрудничества от моделей ХХ в., влияние процессов глобализации на развитие практики многосторонности в международных отношениях. Выявляются различия между узким (консервативным) и широким (радикальным) пониманием многосторонности, особое внимание уделяется вопросу о роли ценностей как предполагаемой основы стабильных и эффективных многосторонних механизмов. Автор, подвергая критике представления о том, что такие механизмы возможны лишь при условии, что их участниками являются либеральные демократии, приходит к выводу, что многосторонние практики должны быть основаны на совпадении интересов, а не на общности ценностей. В статье перечисляются условия эффективности многосторонних договоренностей, включая принцип «диффузной взаимности», то есть готовности участников таких договоренностей жертвовать частью своих ближайших конкретных интересов во имя предполагаемых, хотя еще и четко не обозначенных встречных шагов со стороны партнеров. Автор обращает внимание на то, что будущие многосторонние институты, режимы и договоренности будут выстраиваться в системе, не имеющей общепризнанного гегемона, и в условиях относительной слабости международных организаций и международного права. Автор приходит к выводу, что в обозримой перспективе наиболее продуктивными и наименее затратными окажутся форматы «проектной многосторонности», основанной на создании подвижных ситуативных коалиций государств и негосударственных участников международных отношений для решения конкретных задач глобального и регионального управления. Накопление позитивных практик «проектной многосторонности» позволит постепенно перейти к более продвинутым практикам «стратегической многосторонности».
Идентификаторы и классификаторы
- УДК
- 32. Политика
- Префикс DOI
- 10.31249/poln/2024.02.04
Без многополярности, хотя бы в эмбриональном состоянии, не может быть многосторонности, так как в однополярной или жесткой биполярной системе просто нет достаточного числа субъектов для полноценного многостороннего взаимодействия. Но многополярность не обязательно включает в себя также и многосторонность, поскольку отношения внутри многополярной системы могут сводиться к набору двусторонних связей между отдельными центрами силы или преимущественно к односторонним действиям этих центров.
Список литературы
1. Bell J., Poushter J., Fagan M., Kent N., Moncus J.J. International cooperation welcomed across 14 advanced economies. Pew Research Center, 2020, 49 p.
2. Cossa R.A., Glosserman B. Multilateralism (still) matters in/to Asia. Comparative connections. 2021, Vol. 22, N 3, P. 1-18.
3. Fernández de Losada A., Galceran-Vercher M. (eds.) Cities in global governance: from multilateralism to multistakeholderism? Barcelona: Centre for International Affairs (CIDOB), 2021, 95 p.
4. Maull H.W. Multilateralism: variants, potential, constraints and conditions for success. SWP Comment 2020/C 09. 5.03.2020. https://doi.org/10.18449/2020C09
5. Meier O. Yes, We Can?: Europe responds to the crisis of multilateral arms control. European Leadership Network, 2020. Mode of access: http://www.jstor.org/stable/resrep27653 (accessed: 23.01.2024).
6. Telò M. (ed.). Reforming multilateralism in post-COVID times for a more regionalised, binding and legitimate United Nations. Brussels: Foundation for European Progressive Studies, 2020, 264 p.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Эффективность государственной политики по обеспечению кибербезопасности и информационной безопасности напрямую зависит от того, насколько успешно такие меры будут соблюдаться гражданами на национальном уровне. В рамках данного исследования рассматривается влияние когнитивно-рациональных, ценностно-аффективных и социально-демографических факторов на поддержку респондентами проводимой государством политики в сфере информационного регулирования на примере выбранных кейсов регулирования социальных сетей и введения обязательной системы распознавания лиц в общественном транспорте. В ходе исследования применялся факторный опрос (N=395) с использованием виньеток, позволяющих рассмотреть эффекты фреймирования на восприятие респондентами предлагаемых мер. Анализ результатов эксперимента в данном исследовании показал, что фреймирование новостей путем убеждения населения оказать поддержку предложенным мерам в краткосрочном периоде не приводит к росту поддержки мер, в то время как факторы, оказывающие влияние на общественное восприятие, имеют менее изменчивый во времени характер и включают в себя гражданскую идентичность, доверие политической системе и оценку опасности киберугроз. Результаты исследования позволяют нам подтвердить гипотезу о прямой связи гражданской идентичности и поддержки рестриктивных мер, а также частично подтвердить предположение о том, что политическое доверие граждан и специфика восприятия киберугроз положительно влияют на поддержку введения мер. Кроме того, был получен интересный результат, связанный с неоднородностью поддержки государственных мер на различных уровнях политического доверия респондентов, что позволяет обозначить дальнейший потенциал исследований общественного восприятия таких мер с учетом доверия политической системе и отдельным политическим акторам (правительству, спецслужбам, армии и т. д.) в России.
В статье рассмотрены концептуальные и методологические трудности эмпирического измерения военного потенциала государств в мировой политике. Современная теория международных отношений и политическая наука, как правило, трактуют понятие «военная сила» как диспозиционную или эпизодическую характеристику. В первом случае рассматриваются ресурсы и потенциалы, доступные странам для осуществления силового принуждения (или отпора внешнему давлению). Во втором случае военная сила актуализируется исключительно в виде непосредственного применения в вооруженных конфликтах. В первой части статьи рассматриваются концептуальные достоинства и недостатки этих подходов, а также имеющиеся проблемы операционализации военной мощи. Как показано в статье, наибольшее внимание к изучению роли военной силы в мировой политике уделяется в рамках реалистского подхода в теории международных отношений, однако в силу методологических ограничений проблема оценки и ранжирования военных потенциалов стран в настоящее время остается нерешенной. Во второй части рассматривается опыт изучения индикаторов военной мощи государств в мировой политике. Основной вывод – существующие разработки по количественной оценке военных потенциалов все последние десятилетия оперируют исключительно прокси-переменными в виде объема оборонных расходов в постоянных долларах США и численности вооруженных сил. В заключительной части статьи рассматриваются перспективные индикаторы военной мощи как диспозиционного или эпизодического явления.
Исследовательский проект «Политический атлас современного мира 2.0», как и предшествующий «Политический атлас современности», предоставляет внушительный инструментарий для изучения структур, образуемых современными государствами. Тем не менее остается ряд существенных проблем, одной из которых является сложность учета переменных, связанных с инструментами экономического влияния. Такие инструменты используются в современной практике весьма часто. Речь, прежде всего, об экономических санкциях, которые представляют собой механизм ограничений в области торговли, финансов, транспортного сообщения и иных связей для достижения политических целей. Подобная ситуация порождает закономерный вопрос: в каком виде оптимально учесть параметр экономических санкций в «Политическом атласе современного мира 2.0». Основной тезис состоит в том, что санкции могут отражаться как в виде внешней угрозы для современных государств, так и в качестве инструмента их внешней политики. То есть в терминах указанного проекта информация об использовании санкций может применяться как в индексе внешних и внутренних угроз, так и в индексе потенциала международного влияния. В статье проводится анализ возможности использования данных переменных в той логике, в которой проходил отбор остальных переменных проекта: анализ основного понятия, состояние эмпирических исследований, вопросы теории, операционализация понятия в виде отдельных переменных. Исследование политики санкций могло бы стать отдельным подпроектом в рамках «Политического атласа современного мира 2.0», определяя его развитие не только с точки зрения обновления и расширения основной базы данных, но и развития отдельных специализированных тем в рамках общей рамки проекта.
Потенциал государства в развитии его «мягкой силы» – важный компонент оценки государственной состоятельности. «Мягкая сила» государства свидетельствует не только о его внешней привлекательности и неформальном влиянии на решения, принимаемые другими международными акторами; это еще и важный показатель наличия у страны потенциала для влияния на формирование наиболее благоприятной для государства внешней среды. Валидность индексов «мягкой силы» до сих пор систематическим образом не исследовалась, что является существенным ограничением на пути к практическому применению разработанных индексов в сравнительных эмпирических исследованиях. Результаты анализа валидности показали, что существующие индексы «мягкой силы» не лишены ряда проблем, таких так неизвестный или необоснованный выбор способа агрегирования данных, несоответствие прокси-переменных концептуализации, а также включение в анализ результатов опросов общественного мнения и экспертных опросов. С учетом обнаруженных проблем в данной работе были сформулированы и опробованы способы их преодоления. Это, в первую очередь, измерение ресурсов «мягкой силы», опора на строгую концептуализацию, отказ от использования субъективных данных и использование метода главных компонент для более методологически обоснованного определения итоговых весов используемых признаков. Данная работа показывает пример того, как может выглядеть более валидный индекс, при этом выбор как прокси-переменных, так и возможных измерений «мягкой силы» нуждается в дальнейшем обсуждении и уточнении.
В статье с критической точки зрения рассматриваются подходы к государственному управлению, основанному на данных, а также характерные ошибки в принятии решений, которые проистекают из ненадежных данных и их неверных интерпретаций. Приводятся исторические примеры заблуждений, допущенных министром обороны США Р. Макнамарой, рассматривается пагубная политика отбрасывания качественных оценок в пользу использования только и исключительно измеримых параметров. На примере некорректной интерпретации демографической статистики в Косово рассмотрено влияние заведомо ложной и некритически воспринимаемой информации на принятие решений в части внутренней национальной политики бывшей Югославии и дальнейшей гуманитарной интервенции под эгидой защиты албанского населения от геноцида. Рассматриваются причины этих заблуждений, приводятся примеры корректных интерпретаций. Далее автор фокусируется на прикладном аспекте: на основе опыта автора в предварительном анализе и обработке данных, используемых в реализации научных проектов, предлагаются способы обхода типичных «ловушек» статистики, ведущих к некорректным интерпретациям.
В статье обосновывается необходимость разработки универсального индекса институционализированной конкуренции и участия, применимого для оценки политических режимов в различных странах мира. Эта необходимость диктуется переменами в состоянии обществ и каналов социальной коммуникации, вызванных процессами модернизации и политического развития. В политической науке принято рассматривать такие процессы в контексте демократизации, однако в данном случае предлагается ценностно-нейтральная оценка, основанная только на «твердых» данных статистики (в первую очередь – электоральной) и анализе конституционного дизайна политических систем. Поскольку к настоящему времени общенациональный парламент и всеобщее активное избирательное право существуют в подавляющем большинстве государств, такая оценка будет иметь близкий к универсальному характер. В состав индекса предлагается включить одну переменную для оценки политического участия – данные о явке на общенациональные выборы как доле от всего взрослого населения страны. Политическая же конкуренция анализируется на основании трех основных и четырех дополнительных переменных. Основные переменные – это уровни конкуренции при формировании соответственно исполнительной власти и парламента, а также роль парламента в формировании исполнительной власти. Дополнительные – возраст минимальной электоральной традиции, наличие в истории страны двух или более смен власти в результате выборов, наличие (или отсутствие) фактора отклонения от конституционных норм при формировании или отстранении от власти (например, перевороты), факт пребывания у власти одного лица на протяжении трех и более электоральных циклов. Такой индекс имеет комплексный и универсальный характер, его разработка позволит оценить и сравнить институциональные условия политического участия и конкуренции в подавляющем большинстве государств мира.
Современный анализ межгосударственных вооружённых конфликтов, как правило, концентрируется на эффектах структурных характеристик, таких, как военная и экономическая мощь, политическая система и географическое положение. Вместе с тем индивидуальная роль ключевых лиц, принимающих решения, часто оказывается вне поле зрения исследователей. В данной статье мы анализируем влияние характеристик лидеров на межгосударственные вооруженные конфликты. В центре нашего внимания находятся два параметра: асимметрия сроков правления и способ получения власти. В фокусе нашей теории лежат проблемы неполной информации и достоверных обязательств. Мы ожидаем, что лидеры с асимметричными сроками правления с меньшей вероятностью вовлекаются в вооруженные конфликты, чем лидеры с симметричными сроками правления. Данный результат в некотором смысле противоречит стандартной модели, согласно которой большее количество знаний лидеров друг о друге должно вести к меньшей вероятности конфликта. Также мы предполагаем, что лидеры, получившие власть конвенциональным способом, с меньшей вероятностью вовлекаются в межгосударственные вооруженные конфликты, потому что таким лидерам гораздо проще брать на себя достоверные обязательства по поддержанию мира. К конвенциональным способам получения власти мы относим выборы, наследственную передачу или любой другой способ, определяющийся в конкретной стране как законный. Неконвенциональные способы включают в себя революции и перевороты. Для эмпирической проверки данных гипотез мы используем массив диадических данных и логит-регрессию. Результаты основных моделей и проверок на устойчивость в целом согласуются с представленной теорией.
Развитие и распространение интернета в последние десятилетия стало одним из важнейших глобальных процессов, охватившим все регионы мира. Как все процессы такого масштаба, он создает сложную систему возможностей и рисков на всех уровнях. В этой работе мы фокусируемся на таком ее измерении, как риски для внутренней стабильности государств, порождаемые массовыми протестными движениями. Государства с разными политическими режимами связывают с распространением интернета угрозу стабильности внутреннего политического порядка, о чем свидетельствует общемировая тенденция наращивания усилий по политически мотивированному цензурированию Глобальной сети. Какой из этих процессов – рост координационных и информационных возможностей протестных движений или возрастающее государственное влияние на глобальную сеть – оказывает большее воздействие на протестую активность? И каково это воздействие? Для ответа на эти вопросы мы предприняли количественное исследование пространственно-временной выборки по 160 странам за период с 1990 по 2019 г. Ключевыми независимыми переменными стали уровни проникновения (данные Всемирного банка) и государственного цензурирования (V-Dem) интернета, зависимой переменной – максимальная численность протестующих за год (Mass Mobilization Project). Результаты порядковой логистической регрессии показали, что более важную роль в связке между информационно-коммуникационными технологиями и масштабами уличной протестной активности играет не проникновение интернета само по себе, а ответ государства на развитие интернет-технологий. И эта связь нелинейна, она обладает квадратичной n-формой. Максимальная численность протестующих достигается хотя и при высоком, но все же не при максимальном уровне свободы интернета; вместе с тем тотальная цензура действительно устойчиво связана с отсутствием уличной протестной мобилизации. Выявленная закономерность прослеживается как на всем массиве данных, так и внутри каждой из трех основных хронологических эпох развития интернета: 1995–2005, 2006–2015, 2016–2019 гг.
В статье исследуются возможности оценки экономической мощи субъектов международных отношений с использованием показателей валового внутреннего продукта (ВВП). Продемонстрировано, что сопоставления рассчитанных по текущему валютному курсу национальных показателей ВВП создают ложные основания для аргументов в пользу построения биполярного (США и КНР) миропорядка, в то время как расчет показателей ВВП по паритету покупательной способности (ППС) обеспечивает существенно более реалистичную картину распределения экономической мощи в глобальном масштабе. Идентифицированы три кластера национальных и наднациональных субъектов международных отношений, обладающих экономическим потенциалом, достаточным для участия в формировании нового многополярного миропорядка, и охарактеризованы возможности каждого из этих субъектов в сфере использования данного потенциала для решения значимых мирополитических целей. К первому кластеру относятся «экономические сверхгиганты» – КНР, США и ЕС; ко второму – «восходящие звезды» в лице Индии и АСЕАН, к третьему – экономики с долей в глобальном ВВП по ППС ниже 4%, большинство из которых на протяжении последних десятилетий демонстрировали деградацию (или стагнацию) своих позиций в мировой экономике. Oхарактеризованы глобально значимые вопросы, по которым возможно складывание широких коалиций с участием рассмотренных международных субъектов. Вхождение в эти коалиции является принципиально важным не только для ограниченных в ресурсах субъектов, относящихся ко второму и третьему кластерам, но и для «экономических сверхгигантов», вовлеченных в противостояние друг с другом и заинтересованных в поисках союзников. Проведен анализ сравнительной экономической мощи Российской Федерации и сформулированы выводы относительно его использования для успешной защиты российских национальных интересов во взаимодействии с другими субъектами международных отношений, претендующими на ведущие роли в формировании многополярного миропорядка. Определены условия, при которых экономический потенциал Российской Федерации и Евразийского экономического союза может быть использован для их оптимального позиционирования в новой системе управления глобальными экономическими и политическими процессам.
В статье рассматриваются процессы трансформации Мир-Системы, находящие выражение в крупных, фактически стадиальных изменениях. Мир-Система находится в фазе, предшествующей переходу в новое качественное состояние, с изменением баланса сил в самых разных аспектах и параметрах. В рамках анализа, проведенного в статье, отмечается, что такие изменения происходят редко, раз в несколько десятков лет, и периоды глубоких изменений могут длиться долго. Авторы предполагают, что период реконфигурации Мир-Системы и формирование нового мирового порядка займёт не менее полутора-двух десятилетий, а, возможно, и больше. При этом авторы приходят к выводу, что это будет турбулентный период с дальнейшим обострением противоречий и возможным переходом к вооруженным столкновениям. Важная идея статьи – эти коренные трансформации происходят в результате не только изменения международных отношений и баланса сил в военно-технологическом потенциале стран и геополитического расклада в целом (что обязательно), но и накопления крупных качественных изменений практически во всех сферах: от демографической до культурной, от технологической до идеологической. В статье анализируется динамика таких изменений за последние десятилетия.
В статье анализируются причины, по которым, с одной стороны, в настоящее время особое внимание уделяется анализу современного мирового порядка, с другой – мировой порядок на протяжении 30 лет так и остается неопределенным. Показывается, что мировой порядок, понимаемый в большинстве исследований как взаимоотношения ведущих государств мира, является лишь частью политической организации мира. Политическая организация мира представляет собой трехуровневую систему, которая наряду с системой межгосударственных отношений включает в себя в качестве основы принципы Вестфальской модели мира, где главным принципом выступает суверенитет, а также политические системы различных государств мира. В связи с тем, что происходит эрозия основы политической организации мира (Вестфальской модели), вопрос о системе межгосударственных отношений в значительной степени утрачивает свою актуальность. Важными для понимания того, как будет формироваться политическая организация мира, становятся интересы различных акторов мировой политики. В статье анализируются интересы государств, международных организаций, структур бизнеса, субнациональных территорий, а также университетов, СМИ и международных НПО. Отмечается, что в современных условиях экономические и гуманитарные интересы различных акторов конвертируются в политические интересы. Это дает основание полагать, что политическая организация мира будущего не сможет не учитывать интересы различных акторов мировой политики. Показывается, что будет происходить дальнейшая транснационализация акторов, связанная не только с глобализацией, определяемой как транспарентность национальных границ, но и с взаимодействием, а порой и «прорастанием» структур одних акторов в структуры других акторов. Одним из важнейших параметров выстраивания новой архитектуры мировой политики будут сетевые отношения. При этом цифровые технологии будут активно внедряться в международно-политическую практику, что повлияет на политическую организацию мира, подобно тому, как в свое время промышленная революция повлияла на развитие капитализма.
Внимание к проблематике «порядка» в политической науке не является чем-то новым, как не является новым явлением «политический порядок» или «международный порядок». Рост этого внимания может означать то, что происходящее в какой-то сфере жизни отличается от привычной динамики. Являясь неотъемлемой частью языка политики и категорией социальных наук, включая политическую науку, «порядок» вообще, «политический порядок» и «международный порядок» в особенности обычно несут в себе нормативные и идеологические коннотации, отражают определенные ожидания и представления. В статье предлагается классификация подходов к международным порядкам, в том числе с минимальными нормативными и идеологическими коннотациями и потенциально имеющими большую аналитическую ценность (к их числу относится позиционный подход). Признак существования международного порядка (мирового порядка) в реальной жизни – это предсказуемость и повторяемость действий тех, на кого распространяется порядок (вне зависимости от многообразия представлений о его параметрах и истоках). Утверждение международного порядка, который обычно квалифицируется как либеральный, связан с быстрым взлетом США в XIX – начале XX в. В течение тридцати лет после окончания холодной войны наблюдалось примерно такое же быстрое усиление позиций Китая, что постепенно возвращает мир к ситуации конкуренции порядков, поддерживаемых сверхдержавами, имеющими и глобальные амбиции, и глобальный охват.
Эмпирические исследования в сравнительной политологии и международных отношениях вынуждены зачастую опираться не только на собственно статистические данные, но и на экспертные оценки. Используемые при этом методы анализа данных обычно не учитывают сущностные различия статистических данных и экспертных оценок, игнорируя дополнительную неопределенность, присущую последним. Данная статья посвящена обсуждению современного состояния методов сбора и обработки экспертных оценок в политологических исследованиях, а также открытых и дискуссионных вопросов в этой области. Автор представляет байесовские процедуры анализа данных как наиболее естественный подход к обработке данных субъективной природы и акцентирует внимание на отличиях байесовского и классического подходов к анализу данных. Также рассматриваются методы получения экспертных оценок через процедуры выявления априорных распределений в целях дальнейшего использования этих распределений в байесовском анализе данных. Существующие подходы иллюстрируются примерами из проекта «Политический атлас современного мира 2.0». В статье обсуждаются и возможности отказа от сбора экспертных оценок в пользу «распределенного кодирования», т. е. процедур разметки качественных признаков неэкспертами на основе формализованных инструкций. В статье приводятся как успешные примеры использования «распределенного кодирования», так и сложности, стоящие на пути интеграции этого подхода в исследовательскую практику в области сравнительной политологии и международных отношений. Наконец, завершающий раздел статьи посвящен интеграции экспертных оценок, с одной стороны, и технологий искусственного интеллекта и машинного обучения – с другой. Указывается на их совместимость в рамках байесовского подхода к анализу данных.
В статье рассматриваются некоторые теоретико-методологические вызовы, вставшие в последние годы перед современной политической наукой. Эти вызовы имеют как онтологический, так и эпистемологический характер, то есть проистекают из объективной социально-экономической и политической динамики и из возникающих теоретико-методологических дилемм политического знания. Среди первых прежде всего можно выделить характер и последствия крушения (кризиса) миропорядка, сложившегося после окончания холодной войны. Далее, это исчерпанность линейной парадигмы политического развития (от модернизации до демократизации) и подъем «новой консервативной волны». Нерешенным остается также вопрос о ключевых драйверах политического развития – социально-экономических vs культурно-ценностных. Важным вызовом является также значительная вариативность и «нового авторитаризма», в том числе как относительно эффективного инструмента социально-экономического развития, так и современных демократий. Применительно к демократии сейчас едва ли не сквозная тема, привлекающая все больше внимания, – не ее подрыв «извне», а более или менее постепенная и плавная эрозия «изнутри». Проблемы состоятельности и устойчивости современных государств тоже активно дискутируются исследователями, и одним из результатов этих дискуссий может стать преодоление давно установившегося фокуса на режимных критериях в оценке современных государств. Среди эпистемологических вызовов выделяется соотношение количественных и качественных методов, проблемы меж-, много- и трансдисциплинарности и т. п. В данной статье рассматриваются некоторые из вызовов первого рода.
Вступительное слово редакции журнала “Политические науки”, посвященное теме номера
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- ИНИОН РАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 51/21
- Юр. адрес
- 117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 51/21
- ФИО
- Кузнецов Алексей Владимирович (Руководитель)
- E-mail адрес
- igpran@igpran.ru
- Контактный телефон
- +7 (916) 5591912
- Сайт
- http:/inion.ru