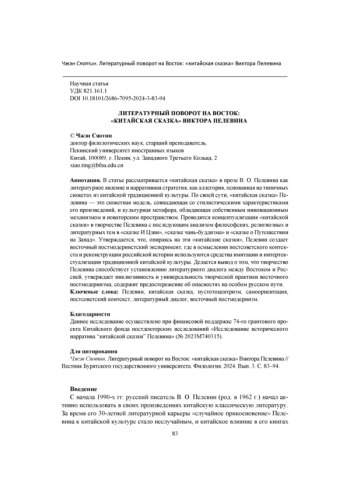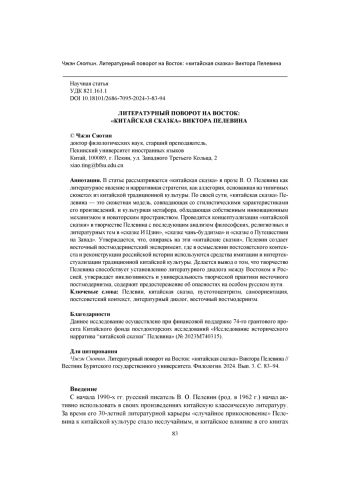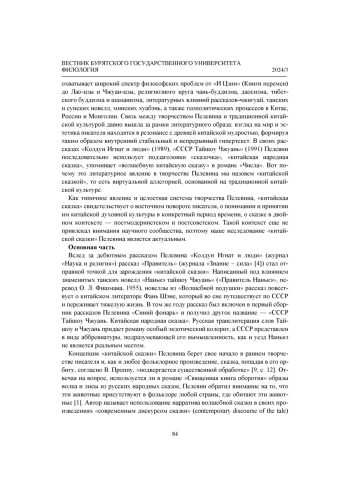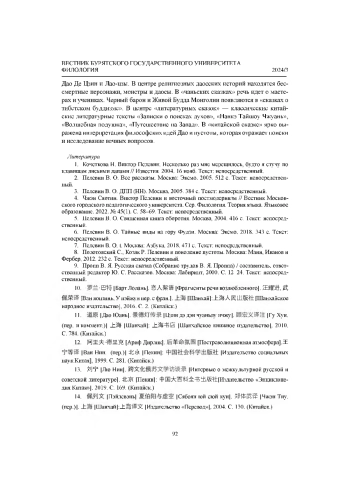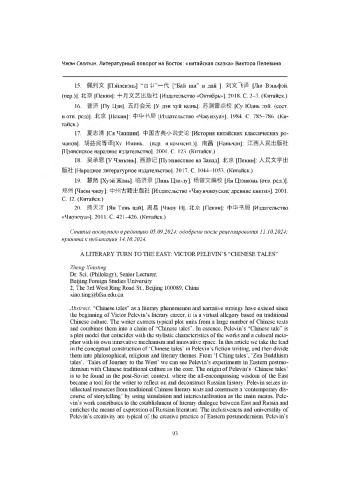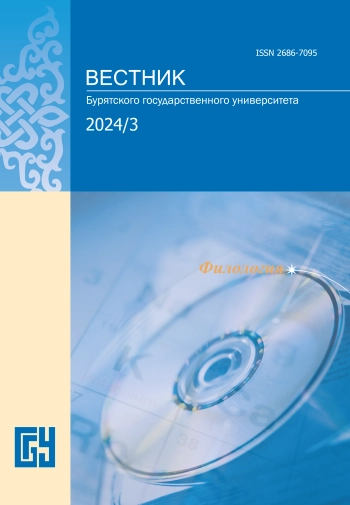В статье рассматривается «китайская сказка» в прозе В. О. Пелевина как литературное явление и нарративная стратегия, как аллегория, основанная на типичных сюжетах из китайской традиционной культуры. По своей сути, «китайская сказка» Пелевина - это сюжетная модель, совпадающая со стилистическими характеристиками его произведений, и культурная метафора, обладающая собственным инновационным механизмом и новаторским пространством. Проводится концептуализация «китайской сказки» в творчестве Пелевина с последующим анализом философских, религиозных и литературных тем в «сказке И Цзин», «сказке чань-буддизма» и «сказке о Путешествии на Запад». Утверждается, что, опираясь на эти «китайские сказки», Пелевин создает восточный постмодернистский эксперимент, где в осмыслении постсоветского контекста и реконструкции российской истории используются средства имитации и интертекстуализации традиционной китайской культуры. Делается вывод о том, что творчество Пелевина способствует установлению литературного диалога между Востоком и Россией, утверждает инклюзивность и универсальность творческой практики восточного постмодернизма, содержит предостережение об опасностях на особом русском пути.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Литература
С начала 1990-х гг. русский писатель В. О. Пелевин (род. в 1962 г.) начал ак тивно использовать в своих произведениях китайскую классическую литературу. За время его 30-летней литературной карьеры «случайное прикосновение» Пеле вина к китайской культуре стало неслучайным, и китайское влияние в его книгах охватывает широкий спектр философских проблем от «И Цзин» (Книги перемен) до Лао-цзы и Чжуан-цзы, религиозного круга чань-буддизма, даосизма, тибетского буддизма и шаманизма, литературных влияний рассказов-чжигуай, танских и сунских новелл, минских хуабэнь, а также геополитических процессов в Китае, России и Монголии.
Список литературы
1. Кочеткова Н. Виктор Пелевин. Несколько раз мне мерещилось, будто я стучу по клавишам лисьими лапами // Известия. 2004. 16 нояб. Текст: непосредственный.
2. Пелевин В. О. Все рассказы. Москва: Эксмо, 2005. 512 с. Текст: непосредственный.
3. Пелевин В. О. ДПП (НН). Москва, 2005. 384 с. Текст: непосредственный.
4. Чжэн Сяотин. Виктор Пелевин и восточный постмодернизм // Вестник Московского городского педагогического университета. Сер. Филология. Теория языка. Языковое образование. 2022. № 45(1). С. 58-69. Текст: непосредственный.
5. Пелевин В. О. Священная книга оборотня. Москва, 2004. 416 с. Текст: непосредственный.
6. Пелевин В. О. Тайные виды на гору Фудзи. Москва: Эксмо, 2018. 343 с. Текст: непосредственный.
7. Пелевин В. О. t. Москва: Азбука, 2018. 471 с. Текст: непосредственный.
8. Полотовский С., Козак Р. Пелевин и поколение пустоты. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 232 с. Текст: непосредственный.
9. Пропп В. Я. Русская сказка (Собрание трудов В. Я. Проппа) / составитель, ответственный редактор Ю. С. Рассказов. Москва: Лабиринт, 2000. C. 12-24. Текст: непосредственный.
10. 罗兰·巴特 [Барт Лолань]. 恋人絮语 [Фрагменты речи возлюбленного]. 汪耀进, 武佩荣译 [Ван яоцзинь, У пэйжун пер. с фран.]. 上海 [Шанхай]:上海人民出版社 [Шанхайское народное издательство], 2016. С. 2. (Китайск.).
11. 道原 [Дао Юань]. 景德灯传录 [Цзин дэ дэн чуаньлу ичжу]. 顾宏义译注 [Гу Хуи.(пер. и коммент.)] 上海 [Шанхай]: 上海书店 [Шанхайское книжное издательство], 2010. С. 784. (Китайск.).
12. 阿里夫·德里克 [Ариф Дирлик]. 后革命氛围 [Постреволюционная атмосфера].王宁等译 [Ван Нин. (пер.)] 北京 [Пекин]: 中国社会科学出版社 [Издательство социальных наук Китая], 1999. С. 281. (Китайск.).
13. 刘宁 [Лю Нин]. 跨文化俄苏文学访谈录 [Интервью о межкультурной русской и советской литературе]. 北京 [Пекин]: 中国大百科全书出版社[Издательство “Энциклопедия Китая”], 2019. С. 169. (Китайск.).
14. 佩列文 [Пэйлевэнь] 夏伯阳与虚空 [Сябоян юй сюй кун]. 郑体武译 [Чжэн Тиу.(пер.)]. 上海 [Шанхай]:上海译文 [Издательство “Перевод”], 2004. С. 130. (Китайск.).
15. 佩列文 [Пэйлевэнь] “百事”一代 [“Бай ши” и дай ]. 刘文飞译 [Лю Вэньфэй.(пер.)]. 北京 [Пекин]: 十月文艺出版社 [Издательство “Октябрь”], 2018. С. 2-3. (Китайск.).
16. 普济 [Пу Цзи]. 五灯会元 [У дэн хуй юань]. 苏渊雷点校 [Су Юань лэй. (сост. и отв. ред)]. 北京 [Пекин]: 中华书局 [Издательство “Чжунхуа”], 1984. С. 785-786. (Китайск.).
17. 夏志清 [Ся Чжицин]. 中国古典小说史论 [История китайских классических романов]. 胡益民等译[Ху Иминь. (пер. и коммент.)]. 南昌 [Наньчан]: 江西人民出版社 (Цзянсиское народное издательство]. 2001. С. 123. (Китайск.).
18. 吴承恩 [У Чэнъэнь]. 西游记 [Путешествие на Запад]. 北京 [Пекин]: 人民文学出版社 [Народное литературное издательство]. 2017. С. 1044-1053. (Китайск.).
19. 慧然 [Хуэй Жань]. 临济录 [Линь Цзи-лу]. 杨曾文编校 [Ян Цзэнвэнь (отв. ред.)]. 郑州 [Чжэн чжоу]: 中州古籍出版社 [Издательство “Чжунчжоуские древние книги”]. 2001. С. 12. (Китайск.).
20. 扬天才 [Ян Тянь цай]. 周易 [Чжоу И]. 北京 [Пекин]: 中华书局 [Издательство “Чжунхуа”]. 2011. С. 421-426. (Китайск.).
Выпуск
Другие статьи выпуска
В статье освещается проблема изучения московского и петербургского текстов в российском литературоведении рубежа XX-XXI вв. При актуализации рецептивного методологического подхода делается попытка проследить изменения в репрезентации пространства Москвы и Петербурга в научном дискурсе указанного периода. В центре внимания находятся структурно-семиотические работы В. Н. Топорова, Ю. М. Лотмана, З. Г. Минц и других, вошедшие в сборник «Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым системам» (1984). Именно перечисленные работы заложили традицию восприятия Петербурга как кодового пространства, порождающего особые культурные смыслы. Отмечается, что Москва в данном аспекте долгое время бытует на периферии данной теории, существуя исключительно в контексте петербургского текста, и приходит в литературоведческую науку как текст только спустя десятилетие, о чем говорит издание сборника «Москва и “московский текст” русской культуры» (1998). Подчеркивается, что в современных литературоведческих работах, опирающихся на данные теории, оба текста имеют собственные историкокультурные ресурсы для существования, отдельно утверждается национальная значимость каждого из них. На основании этого делается вывод об относительной самостоятельности и большом исследовательском потенциале рассматриваемых текстов.
Идиостиль Н. Туроверова воплощает особенности менталитета донского казачества. Мироощущение лирического героя чаще всего совпадает с мировосприятием автора в стихотворениях. Поэт не принимает обозначение прощания с Россией как эмиграции, вкладывая в эту лексему отрицательные коннотации. Творческая индивидуальность поэта-казака, поэта-воина определила именование лирического героя: скиталец, пилигрим, казак, поэт, певец. Его герой нашел свой истинный путь пилигрима, возвращающегося к родным станицам, и это путь поэтический. Данный подход и обозначил особенности воплощения мотива прощания с Россией - прощание с вечной надеждой на возвращение. Именование лирического героя Н. Туроверова сформировалось под воздействием классической традиции, казачьего и эмигрантского контекстов. Эти художественные векторы и определили взаимодействие и оппозиция различных семантических единиц, обозначающих название лирического героя.
В статье исследуется очерк «У фотографа» из цикла «Альбом. Группы и портреты» (1879) писательницы 2-й половины XIX в. Н. Д. Хвощинской, в котором представлен собирательный образ «дельца» в качестве одного из типичных представителей губернского мещанства. На основе исторических архивных документов делаются предположения относительно его прототипов, отмечается сходство образов произведений Н. Д. Хвощинской и А. И. Куприна. Материалы научных конференций и специальная литература помогают автору определить возможные исходные локации описаний жизни провинциального города N. Исследователь анализирует актуальные для прозы Н. Д. Хвощинской 70-х гг. XIX в. темы исчезновения идеалов и падения нравов, обесценивания женственности, описывает формирующую образы героев дворянско-мещанскую культуру губернской Рязани, выявляет архитектонику творческого метода автора.
В статье анализируются работы 1990-х-2000-х гг., заявленные как исследования «религиозно-философской мысли Антона Павловича Чехова». Выявляются методологические недостатки этих работ, главный из которых - неразличение категорий «образ автора» и «автор-творец» (по Н. Д. Тамарченко), приводящее к ложному отождествлению идей в художественных произведениях Чехова и мировоззрения самого писателя. Анализ поэтики чеховских рассказов, повестей и пьес неправомерно и нелогично оказывается в приводимых исследованиях способом уточнения отношения А. П. Чехова к философии и религии. Кроме того, в указанных исследованиях нередко игнорируется или недостаточно обсуждается вопрос о принципиальной (не)возможно-сти влияния той или иной философской системы на А. П. Чехова с учетом фактов его биографии, круга его чтения, содержания его переписки. Методологически корректное же исследование данной темы сталкивается с ограниченностью материала. Однако тема остается актуальной для чеховедов.
Автор ставит целью рассмотреть образ повседневности в художественном мире И. А. Гончарова. Феномен повседневности рассматривается как часть оппозиций: «быт - бытие», «вещное - духовное» и др. Анализу предшествует краткий экскурс в историю научного исследования этого феномена представителями философии, социологии, литературоведения, что позволяет констатировать широту диапазона различных подходов и отсутствие универсальной формулировки понятия. В работе использовались культурно-исторический, семиотический, типологический методы. Результатом исследования стали следующие выводы. В романах И. А. Гончарова образ повседневности представлен прежде всего бытовыми, а также пространственно-временными реалиями. Поэтика повседневности является базовым компонентом создания образов в художественном мире И. А. Гончарова. Образ повседневности в романах писателя обладает самодостаточностью, культурно-исторической и эстетической ценностью, его структурные элементы служат задачам создания образов героев, психологизации повествования, установлению идейно-эстетического замысла автора.
Статья посвящена концепту калмыцкой лингвокультуры кишг «счастье». Материалом исследования послужили данные из лексикографических источников, вербализующих концепт кишг.
Методы исследования: интерпретативный и лингвокультурологический.
Результаты: анализ показал, что калмыки ассоциируют счастье с детьми (KYYKd, урн), здоровьем (эрYл-менд), знанием (сурhуль), коллективом (олн), наличием скота (унЫ, daahH, кеелтэ маштг). Установлено, что осознание кишг «счастья» обусловлено социальным положением (возраст, пол), личностными качествами (трудолюбие, старание, усердие, порядочность, стойкость, сдержанность, умение преодолевать жизненные препятствия). В картине мира калмыков счастье наделяется способностью перемещаться (ирх, орх, hapx); осмысливается как нечто, что можно найти (олх), упустить (алдх), переживать (эдлх), чем можно наслаждаться (^uphx), одарить (заях), о чем можно мечтать (дурдх). К перцептивным признакам кишг, по мнению авторов, относятся размер (баИ), продолжительность (ахр), вкус (амт), «крепость» (бат). Этнокультурная специфика осмысления счастья прослеживается в метафоре жилища, а также в комплексе мероприятий по сохранению счастья. Кишг присутствует в материальной культуре калмыков в виде влзэ ‘узел счастья’, антропонимике (имена Заян Судьба, Удача’, Заяна Судьба, Удача’, Заята ‘Cчастливая’, Хвв ‘Счастье’, Хввтэ ‘Счастливая’, Кишгтэ ‘Счастливая’, Кишг ‘Счастье’, влзэтэ ‘Счастливая’, Щиркл ‘Счастье’), жанре йврэл ‘благопожелание’ (Бат кишгтэ бол! влзэтэ бол! ‘Будь счастлив!’), что указывает на важное место концепта кишг в картине мира калмыцкого народа.
В статье рассматривается проблема диалогического взаимодействия китайских и русских культурных концептов с точки зрения герменевтического подхода к межкультурной коммуникации. Методологическими основаниями служат также научные исследования в области языковой картины мира и концептов. В работе используется такая герменевтическая категория, как горизонт ожидания для анализа функционирования концептов Дао и Совесть. Для анализа концептов Небо и Судьба в межкультурной коммуникации автором используется категория герменевтического круга, в котором в круговом движении данные концепты содействуют достижению понимания представителей разных народов и культур. В статье проводится анализ схожих и отличительных характеристик данных концептов в зависимости от национальной картины мира и культурно-исторических традиций. Автор обосновывает эвристический характер герменевтической методологии в исследованиях межкультурной коммуникации и приходит к выводу о необходимости вдумчивого отношения к традициям другого народа, учета своеобразия языковой картины мира собеседников, культурных концептов.
Статья посвящена графико-орфографическому описанию оригинальных сибирских документов XVII в. на материале текста «Отписка десятника Селенгинской службы Васьки о злодеяниях, чинимых мунгальскими воровскими людьми» (1682 г.), созданного на территории Забайкалья. Данный деловой текст представляет собой типичный рукописный документ регионального делопроизводства XVII в., его палеографические черты характерны для деловых бумаг этого периода - отсутствие пробела между служебными и знаменательными словами, использование для датировки буквенной цифири, наличие выносных букв, сокращение сакральных и часто употребляемых слов с помощью титла, наличие дублетных букв в одном слове, многообразие начертаний одних и тех же букв, наличие диакритических знаков, которые зачастую отражают декоративную функцию. Анализ графики и орфографии позволил сделать следующие выводы: документ создан по графико-орфографическим правилам русской скорописи XVII в.; писец строго соблюдает орфографические нормы делового письма XVII в. Точно передаются написания, подчиняющиеся фонетическому принципу правописания, который выработался в приказном узусе на протяжении двух столетий.
В статье разрабатывается проблема сущности семантики местоимения французского языка Nous как указателя личной множественности в русле общей теории личных местоимений и теории персонализации дискурса. Обосновывается положение о синкретичности местоименного знака, которая раскрывается в его эгоцентрической структуре, формулы которой отражают различные подходы к категориям субъектности, множественности, типа референции, идентификации. Установлено два основных способа реализации персонализации высказывания посредством местоимения Nous: способ иконической инклюзии и способ ассоциативно-символической инклюзии в означивании референциальной группы. Первый способ отражает базовый уровень категоризации смысла Nous: обозначение лиц по их коммуникативному статусу в хронотопе прямого дейксиса, в условиях определенной референции. Данный способ мотивирован признаком общей деятельности, в том числе одновременной локуцией. Второй способ отражает переход в категоризации на уровень абстрагирования по механизму метонимического переноса и придаёт условный характер неопределенной референции, что позволяет не столько обозначать имеющуюся группу Nous, но создавать её в дискурсивном времени конструирования высказывания. Переход на ассоциативный уровень указания на личную множественность выводит высказывание в символический режим функционирования, сопряженный с возведением к ценностно насыщенным концептам в интерпретации.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- БГУ
- Регион
- Россия, Улан-Удэ
- Почтовый адрес
- 670000, Дальневосточный федеральный округ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 "а"
- Юр. адрес
- 670000, Дальневосточный федеральный округ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 "а"
- ФИО
- Дамдинов Алдар Валерьевич (Руководитель)
- E-mail адрес
- univer@bsu.ru
- Контактный телефон
- +7 (301) 2297170
- Сайт
- https://bsu.ru