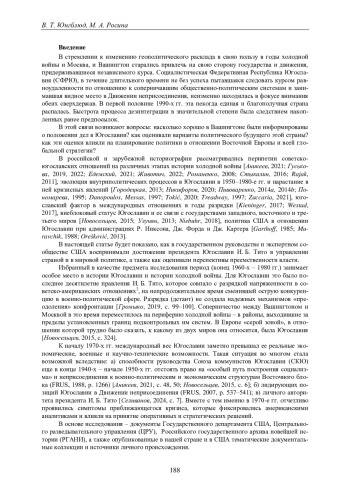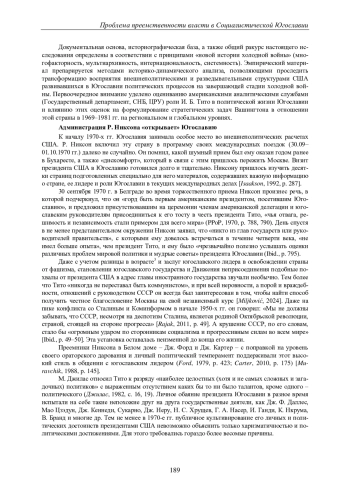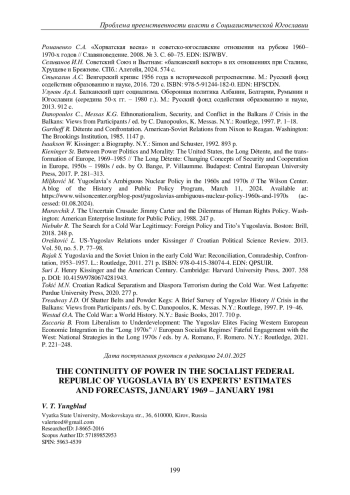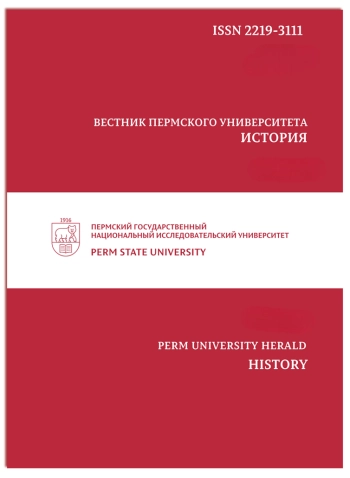Статья посвящена американо-югославским отношениям в 1969-1980 гг. В центре исследования - восприятие в Вашингтоне личных и политических качеств И. Б. Тито, оставившего глубокий след в истории Югославии и международных отношений. Показано, что политический выбор этого политика в пользу дистанцирования от СССР и стран Варшавского договора, его независимая внеблоковая стратегия и особая роль в создании и развитии Движения неприсоединения учитывались при решении администраций Р. Никсона, Дж. Форда и Дж. Картера пойти на сближение с СФРЮ. Развитие американо-югославских связей было важным элементом стратегии США. Отмечается, что в государственном руководстве и экспертном сообществе США высоко оценивали достижения Тито в управлении страной. В течение всего десятилетия в Вашингтоне существенное внимание уделяли проблеме преемственности власти, поскольку от этого зависели перспективы сохранения территориальной целостности и государственного суверенитета Югославии. Статья написана на основе широкого круга российских и американских документов и опирается на достижения современной историографии. Эмпирический материал препарируется методами историко- динамического анализа. Первоочередное внимание уделено оцениванию американскими аналитическими службами (Государственный департамент, СНБ, ЦРУ) перспектив сохранения наследия Тито после его ухода из жизни и влиянию этих оценок на формулирование стратегических задач Вашингтона в отношении этой страны в 1969-1981 гг. Обосновываются выводы о том, что в Соединенных Штатах были осведомлены о реальном положении дел в Югославии и отслеживали развитие политических процессов в этой стране. Эксперты знали об отсутствии адекватного механизма преемственности власти, вытекающих из этого обстоятельства последствиях в виде разрушения федерации и даже возможной гражданской войны и строили свою региональную и глобальную политику с учетом данного обстоятельства.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- История
В стремлении к изменению геополитического расклада в свою пользу в годы холодной войны и Москва, и Вашингтон старались привлечь на свою сторону государства и движения, придерживавшиеся независимого курса. Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ), в течение длительного времени не без успеха пытавшаяся следовать курсом равноудаленности по отношению к соперничавшим общественно-политическим системам и занимавшая видное место в Движении неприсоединения, неизменно находилась в фокусе внимания обеих сверхдержав. В первой половине 1990-х гг. эта некогда единая и благополучная страна распалась. Быстрота процесса дезинтеграции в значительной степени была следствием накопленных ранее предпосылок.
Список литературы
1. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5. Оп. 75. Д. 926. Л. 82; Д. 1095. Л. 1-5; Оп. 76. Д. 954. Л. 28-40, 85-92; Д. 955. Л. 1-69; Оп. 84. Д. 644. Л. 1-8, 13-21.
2. Джилас М. Тито, мой друг и мой враг. Paris: Lev, 1982. 224 c.
3. “Пражская весна” и международный кризис 1968 года: документы / гл. ред. Н.Г. Томилина, С. Карнер, А.О. Чубарьян. М.: МФД, 2010. 432 с.
4. Carter J. Keeping Faith: Memoirs of President. N.Y.: Bentam Books, 1982. 622 p.
5. Carter J. White House Diary. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2010. 570 p.
6. Ford G. A Time to Heal: the Authobiography of Gerald Ford. N.Y.: Harper and Row, 1979. 454 p.
7. Foreign Relations of the United States (FRUS), 1952-1954. Vol. VIII. Eastern Europe; Soviet Union; Eastern Mediterranean. Washington: GPO, 1988. 1463 p.
8. FRUS, 1964-1968. Vol. XVII. Eastern Europe. Washington: GPO, 1996. 2786 p.
9. FRUS, 1969-1976. Vol. XXIX. Eastern Europe; Eastern Mediterranean, 1969-1972. Washington: GPO, 2007. 1154 p.
10. FRUS, 1969-1976. Vol. E-15, рart 1. Documents on Eastern Europe, 1973-1976. Washington: GPO, 2008. Available at: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve15p1 (accessed: 01.05.2024).
11. FRUS, 1977-1980. Vol. XX. Eastern Europe. Washington: GPO, 2015. 1068 p.
12. Weekly Summary Special Report the Struggle for a Yugoslav National Identity, 10 March 1972 // CIA. Available at: https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP85T00875R001500040010-7.pdf (accessed: 19.05.2023).
13. Kissinger H. White House Years. Boston: Little, Brown and Company, 1979. 1521 p.
14. Public Papers of the Presidents of the United States (РРoP): Richard Nixon 1970. Washington: US GPO, 1970. 1333 p.
15. PPoP: Jimmy Carter 1978 (in two books). Book I. January 1 to June 30, 1978. Washington: US GPO, 1979. 1281 p.
16. Аникеев А.С. Советское восприятие и оценка югославской модели социализма в контексте событий 1968 г. в Чехословакии // 1968 год. “Пражская весна”: 50 лет спустя. Очерки истории / отв. ред. Т.В. Волокитина. М.: Ин-т славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. С. 44-56. DOI: 10.31168/4469-2006-8.04 EDN: YAHBON
17. Городецкая Н.Б. Югославия накануне системного кризиса (1960-1970-е) // Изв. Урал. федер. ун-та. Гуманитарные науки. 2013. № 3 (117). С. 155-162. EDN: RUQYDJ
18. Громыко Ал.А. Дипломатия позитивного действия // “Война между государствами - великое зло”. К 110-летию А.А. Громыко / общ. ред. Ал.А. Громыко. М.: Весь Мир; ИЕ РАН, 2019. С. 84-102. EDN: PFDGYV
19. Гуськова Е.Ю. Распадающаяся Югославия: можно ли было избежать войн? // Славяне и Россия: Россия, Болгария, Балканы. Проблемы войны и мира. XVIII-XXI вв. (мифы и реальность): сб. ст. / под ред. К.В. Никифорова. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2019. С. 479-499. DOI: 10.31168/2618-8570.2019.22 EDN: EPJETP
20. Гуськова Е.Ю. Внешняя политика России в годы югославского кризиса 1985-1995 гг. СПб.: Даль, 2022. 462 c.
21. Едемский А.Б. Белград и Москва на грани очередного конфликта: Тито против Брежнева в 1968 г. // 1968 год. “Пражская весна”: 50 лет спустя. Очерки истории / отв. ред. Т.В. Волокитина. М.: Ин-т славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2021. С. 57-63. DOI: 10.31168/4469-2006-8.05 EDN: NUBLUQ
22. Животич А. “Балканский фронт” холодной войны: СССР и югославско-албанские отношения. 1945-1968 гг. / отв. ред. А.Б. Едемский. М.: Ин-т славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2022. 288 с. 10.31168/4469-1983-3. DOI: 10.31168/4469-1983-3ISBN ISBN: 978-5-4469-1983-3 EDN: MZQWCA
23. Никифоров К.В. “Особый путь” социалистической Югославии и постюгославских государств // Москва и Восточная Европа. Национальные модели социализма в странах региона (1950-1970-е гг.). Формирование, особенности, современные оценки / отв. ред. А.С. Аникеев. М.: Ин-т славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2020. С. 259-272. DOI: 10.31168/4469-1634-4.14 EDN: LMHJFJ
24. Новосельцев Б.С. Внешняя политика Югославии (1961-1968 годы). М.: Ин-т славяноведения РАН, 2015. 352 с. ISBN: 978-5-7576-0345-2 EDN: SADLXL
25. Пивоваренко А.А. Предпосылки выхода Хорватии из СФРЮ. Республиканский аспект // Вестник славянских культур. 2014а. № 3. С. 50-58. EDN: SMUIHJ
26. Пивоваренко А.А. Становление государственности в современной Хорватии (1990-2001 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 2014b. 312 с.
27. Пономарева Е.Г. Распад югославской модели федерализма: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 1995. 27 с. EDN: ZLIJJR
28. Романенко С.А. “Хорватская весна” и советско-югославские отношения на рубеже 1960-1970-х годов // Славяноведение. 2008. № 3. С. 60-75. EDN: ISJWBV
29. Селиванов И.Н. Советский Союз и Вьетнам: “балканский вектор” в их отношениях при Сталине, Хрущеве и Брежневе. СПб.: Алетейя, 2024. 574 c. EDN: ZVRHFK
30. Стыкалин А.С. Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. 720 с. ISBN: 978-5-91244-182-0 EDN: HFSCDN
31. Улунян Ар.А. Балканский щит социализма. Оборонная политика Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. - 1980 г.). М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2013. 912 с.
32. Danopoulos C., Messas K.G. Ethnonationalism, Security, and Conflict in the Balkans // Crisis in the Balkans: Views from Participants / еd. by C. Danopoulos, K. Messas. N.Y.: Routlege, 1997. P. 1-18.
33. Garthoff R. Détente and Confrontation. American-Soviet Relations from Nixon to Reagan. Washington: The Brookings Institution, 1985. 1147 p.
34. Isaakson W. Kissinger: a Biography. N.Y.: Simon and Schuster, 1992. 893 p.
35. Kieninger St. Between Power Politics and Morality: The United States, the Long Détente, and the transformation of Europe, 1969-1985 // The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe, 1950s - 1980s / eds. by O. Bange, P. Villaumme. Budapest: Central European University Press, 2017. P. 281-313.
36. Miljković M. Yugoslavia’s Ambiguous Nuclear Policy in the 1960s and 1970s // The Wilson Center. A blog of the History and Public Policy Program, March 11, 2024. Available at: https://www.wilsoncenter.org/blog-post/yugoslavias-ambiguous-nuclear-policy-1960s-and-1970s (accessed: 01.08.2024).
37. Muravchik J. The Uncertain Crusade: Jimmy Carter and the Dilemmas of Human Rights Policy. Washington: American Enterprise Institute for Public Policy, 1988. 247 p.
38. Niebuhr R. The Search for a Cold War Legitimacy: Foreign Policy and Tito’s Yugoslavia. Boston: Brill, 2018. 248 p.
39. Orešković L. US-Yugoslav Relations under Kissinger // Croatian Political Science Review. 2013. Vol. 50, no. 5. P. 77-98.
40. Rajak S. Yugoslavia and the Soviet Union in the early Cold War: Reconciliation, Comradeship, Confrontation, 1953-1957. L.: Routledge, 2011. 271 p. ISBN: 978-0-415-38074-4 EDN: QPSUIR
41. Suri J. Henry Kissinger and the American Century. Cambridge: Harvard University Press, 2007. 358 p. DOI: 10.4159/9780674281943
42. Tokić M.N. Croatian Radical Separatism and Diaspora Terrorism during the Cold War. West Lafayette: Purdue University Press, 2020. 277 p.
43. Treadway J.D. Of Shatter Belts and Powder Kegs: A Brief Survey of Yugoslav History // Crisis in the Balkans: Views from Participants / eds. by C. Danopoulos, K. Messas. N.Y.: Routlege, 1997. P. 19-46.
44. Westad O.A. The Cold War: a World History. N.Y.: Basic Books, 2017. 710 p.
45. Zaccaria B. From Liberalism to Underdevelopment: The Yugoslav Elites Facing Western European Economic Integration in the “Long 1970s” // European Socialist Regimes’ Fateful Engagement with the West: National Strategies in the Long 1970s / eds. by A. Romano, F. Romero. N.Y.: Routledge, 2021. P. 221-248.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Статья посвящена проблеме датировки присоединения Перми Великой к Московскому государству, которая до сих пор оставалась дискуссионной. В российской историографии долго господствовало мнение, что это событие произошло в 1472 г., когда после поражения Новгорода в Шелонской битве московская рать князя Ф. Пестрого в результате карательной экспедиции окончательно закрепила эту территорию за Москвой. О. В. Семенов предложил приурочивать момент присоединения Перми Великой к 1505 г., когда с Пермского наместничества был сведен последний местный династ князя Матвей и выпущена Великопермская уставная наместническая грамота, превращавшая Пермь в обычную административно-территориальную единицу Московского государства. В статье предлагается руководствоваться показаниями иных исторических документов, учитывая, что в источниках хороним Пермь включал в себя и Пермь Вычегодскую, и Пермь Великую. Обе Перми были присоединены к Московскому государству не позднее 1449 г., когда термин Пермский попал в объектную часть титула Василия II, выражением и следствием чего стало назначение в 1451 г. в них наместников из крещеной местной знати с признанием за ними русских княжеских титулов. Сомнения в полноте зависимости великопермских князей от центральной власти развеиваются употреблением применительно к ним терминов «слуга» и «вотчич», имевших в то время вполне определенное значение подчиненности. Предлагается продолжить источниковедческий анализ уставной грамоты 1505 г. для выделения из текста документа ее древнейшей части 1451 г.
Представлен анализ деятельности ведущего в СССР предприятия по художественной обработке цветного камня - свердловского завода «Русские самоцветы» - в годы Великой Отечественной войны. На основе сведений, представленных в архивных фондах Государственного архива Свердловской области и Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, приводятся документальные свидетельства кризиса камнерезного производства на предприятии в предвоенные годы, описываются отдельные шаги по преодолению обозначенных проблем в 1940-1941 гг., в частности активная вовлеченность в этот процесс консультанта завода К. К. Матвеева, профессора Свердловского горного университета. Отдельное внимание уделено анализу деятельности свердловского завода «Русские самоцветы» непосредственно в военные годы. На основе годовых отчетов завода анализируются количественные показатели выпускаемой продукции, а также делается вывод о несправедливости заключений специалистов о полной переориентации завода на выпуск изделий оборонного назначения. Кроме того, приводятся сведения о послевоенных мерах завода по постепенному возрождению камнерезной деятельности, заключающейся в восстановлении камнерезного цеха после реэвакуации московского завода алмазных инструментов № 10, а также активном участии в создании и организации учебного процесса Свердловского художественно-ремесленного училища № 42. На основе проведенного исследования делается вывод о важном значении военных лет в деятельности свердловского завода «Русские самоцветы». Несмотря на перерыв в профильной для предприятия камнерезной деятельности в несколько лет, заводу удалось сохранить, хоть и частично, ювелирное производство и достаточно оперативно восстановить ресурсы для активного процесса возрождения камнерезного цеха во второй половине 1940-х - первой половине 1950-х гг.
История альпинизма нередко редуцируется до хронологии выдающихся восхождений. При подобном подходе прошлое понимается в рамках логики триумфа. Однако подобная сухая перспектива оставляет вне фокуса важные аспекты истории горовосхождений. Например, история повседневности альпинизма изучена фрагментарно, а важнейшая для этого вида спорта проблематика материальности и вовсе едва ли поднималась. Без учета этих контекстов невозможно понять специфику советского альпинизма. Эта ситуация и определяет актуальность настоящей статьи. Исследование посвящено снаряжению, история которого до сих пор оставалась умолчанием, несмотря на всю первостепенную важность экипировки для восхождений. Опираясь на неопубликованные материалы из архивов советских институций, отвечавших за развитие альпинизма и производство снаряжения, в этой статье предлагается новый взгляд на историю этой спортивной дисциплины. Статья начинается с обзора этапов развития и становления изготовления альпинистской экипировки в СССР. При этом особое внимание уделяется тем проблемам, которые вставали перед советским государством в связи с необходимостью снабдить альпинистов качественным снаряжением, обеспечивающим безопасность восхождений. Другой острой проблемой стало производство в достаточном количестве, которое так и не удалось наладить в СССР. Дефицит экипировки побуждал советских граждан производить самодельные ледорубы, кошки и скальные крючья. В конце концов, в статье показывается, как производство снаряжения в СССР разворачивалось на стыке официальной и кустарной технологических культур. Эта статья не только заполняет лакуну в знании о советском альпинизме, но и является апробацией нового способа изучения многомерной истории этой дисциплины.
Рассматривается проблема функционирования норм в повседневной жизни советского общества в 1930-1950 гг. Микроанализ конкретно-исторических ситуаций, выполненный на основании архивных источников, позволил сформулировать тезис о том, что существенной чертой социального порядка в сталинскую эпоху являлось самоуправство. Оно рождалось спонтанно, снизу, а затем либо легитимировалось властью, либо криминализировалось ею же в зависимости от ситуативной прагматики и доктринальных соображений. Таким образом, наряду с писаным законодательством (государственным и партийным), должностными инструкциями и обязанностями в повседневной жизни действовали разнообразные и гетерогенные конвенции. Их область применения тоже определялась конвенциально. Анализ социальной реальности позволил авторам обосновать тезис о том, что сфера действий конвенций выходила далеко за рамки межличностных отношений и малой публичности. Тем самым управляемое самоуправство размещалось в ядре властных - хозяйственных и административных - практик. Кроме того, допускаемый произвол был одновременно апроприирован партийно-хозяйственной номенклатурой для приватного потребления. Подобный характер нормативности был укоренен в агрегатном характере советской повседневности, соединявшей в себе как модернистские, так и архаические начала. Конвенциальность всех и всяческих норм неизбежно препятствовала деятельности партийных и государственных институтов, что принципиально противоречило модернистскому проекту регулярного государства. Таким образом, советское государство становилось обществом риска.
В центре внимания настоящего исследования находится история университетских столовых в 1920-х - середине 1930-х гг., рассмотренных как пространства повседневности, оказывавшие влияние на складывание нового советского «красного» студента. Основными источниками стали материалы периодических изданий Ленинградского, Казанского, Саратовского, Свердловского, Московского и других университетов, в которых проблема организации студенческого питания получила широкое освещение. Были привлечены также архивные материалы, посвященные материально-бытовому положению студенчества, и воспоминания бывших студентов и сотрудников университетов, в которых отражены различные аспекты студенческой жизни. В работе показано, что основные проблемы университетских столовых на протяжении всего рассматриваемого периода оставались в целом неизменными: низкое качество еды, пыль, грязь, несоблюдение элементарных норм гигиены, очереди и пр. К этому добавлялось тяжелейшее материальное положение студентов, которым не хватало денег даже на удовлетворение минимальных жизненных потребностей. Власть старалась канализировать недовольство студентов, перенаправляя его на руководство и сотрудников столовой, представителей органов, ответственных за организацию питания, и даже профессуру. Сложившаяся ситуация во многом отражала процессы, которые происходили в связи с активно проводившейся пролетаризацией высшей школы. Студенты постепенно теряли особый статус и самостоятельную роль в обществе, каковыми обладали в дореволюционный период. Вместо этого они приучались к покорности, унизительному существованию в условиях формализма и неэффективности советских управленческих механизмов, приобретали навыки борьбы за доступ к скудным привилегиям, одной из которых было качественное питание.
Статья посвящена анализу читательских практик поколения народников 1870-х гг. Смещая фокус внимания с кружков и организаций, сформировавшихся в университетских городах, автор обращается к опыту чтения учеников средних учебных заведений губернского города, определившему их стремление к самообразованию и отъезд из дома. В качестве кейса выбрана Вологда, книжный ландшафт которой подробно описан в материалах экстренной ревизии Вологодской духовной семинарии, проведенной чиновником Учебного комитета Синода осенью 1875 г. в связи с политическим процессом ее выпускников В. М. Дьякова и А. И. Сирякова. В статье анализируются идеи преподавателей семинарии об организации внеклассного чтения и выборе книг, представления о роли педагога в воспитании нового поколения священнослужителей, а также особенности надзора за чтением. Автор показывает, что относительно свободный режим доступа к литературе, первоначально одобряемый чиновниками Синода, был результатом педагогических идей, реализуемых после реформы духовного образования 1867 г. Дело Дьякова поставило под вопрос педагогическую ценность «увещеваний» в постановке внеклассного чтения. Источником литературы для семинаристов служили частные публичные библиотеки. Анализ групповых абонементов семинаристов позволил выявить как основные тенденции чтения учеников разных классов, так и роль библиотеки в формировании групп читателей. Особое внимание уделено книжным связям семинаристов за рамками учебного заведения и духовного сословия, позволяющим говорить об особенностях молодежного чтения в Вологде. Вторым источником формирования светских связей семинаристов были уроки в частных домах. На примере семинариста Матвея Глубоковского и гимназистки Аполлинарии Юшиной показана буквальная локализация читателей в городском пространстве, предопределившая их знакомство, выбор библиотеки и в конце концов арест по одному политическому делу. В заключении делается вывод о влиянии опыта чтения учащихся средних учебных заведений на их дальнейшее вовлечение в политический протест.
Изучается роль угля в административной деятельности новороссийского генерал- губернатора М. С. Воронцова во второй четверти XIX в. Главное внимание уделено выявлению роли угля как природного ресурса, игравшего важную роль в административном позиционировании наместника и конструировании его статуса. Отходя от анализа экономической эффективности потребления угля и вопроса о невозможности «энергетического перехода» в первой половине XIX в., в работе мы ставим проблему роли этого полезного ископаемого как политического автора в административной жизни Российской империи второй четверти XIX в. Борьба за контроль над разработкой угля давала возможность получения новых административных полномочий, что было одним из важных явлений административной жизни эпохи Николая I. Конкуренция за контроль над природным ресурсом также отражала представления Е. Ф. Канкрина и М. С. Воронцова о роли природного ресурса в освоении юга Российской империи, а также становилась призмой, отражавшей разные экономические представления. В ходе этой борьбы наместник и министр применяли процедуры исключения высказываний соперника и легитимации собственных проектов. Автор приходит к выводу о том, что конфликт М. С. Воронцова с министром финансов Е. Ф. Канкриным вокруг угольного проекта позволил наместнику южного края укрепить свое положение, получив исключительные права от императора Николая I на координирование добычи и распределения минерального ресурса на юге империи, проведение разных экспериментов, связанных с организацией эффективной торговли каменным углем.
Статья посвящена исследованию категории «регион» в современной историографии истории России и особенностям ее концептуализации в исследовательской практике. Анализируются ключевые подходы к определению данного понятия, выделяя два основных направления: регион как национальная окраина и регион как провинция. В рамках первого подхода регион рассматривается в тесной связи с понятиями «нация», «этнос» и «национальная окраина», где акцент делается на взаимоотношениях центра и периферии в контексте национальной и административной политики. Второй подход определяет регион через противопоставление столице, где все, что находится за ее пределами, понимается как провинция. В статье подробно рассмотрены исследовательские программы и методологические принципы каждого направления, работы как отечественных, так и зарубежных историков. Особое внимание уделяется эволюции понимания региона в зависимости от изучаемого исторического периода - имперского или советского. В статье демонстрируется, как региональный ракурс позволяет не только дополнить традиционный «столичный» взгляд на историю России, но и критически пересмотреть устоявшиеся историографические концепции. Прослеживается развитие регионального подхода с конца XVIII в. до современности, выявляются изменения в трактовке «местного» в различных исследовательских традициях. В заключении сделан вывод о том, что, несмотря на длительные дискуссии вокруг понятия «регион», эта категория часто используется без должной рефлексии, а ее содержание существенно варьируется в зависимости от конкретных исследовательских задач, исторического контекста и методологических предпочтений ученых.
Статья обобщает известные данные по истории Тазовской Николаевской церкви и вводит в научный оборот материалы из нового, только что найденного источника. К научным открытиям исследования относятся дата постройки церкви - 1719 г. - и подробности жизни и деятельности ее причта со дня основания до 1880-х гг. Миссионерская церковь св. Николая простояла на берегах р. Таз более двух веков. На протяжении всего этого времени в обязанности ее служителей входило проповедование христианства среди язычников, обращение их в «истинную» веру и совершение православных треб для новообращенных. К концу XVIII в. все остяки и юраки, проживающие на приписанных к церкви землях, были крещены. Однако эта победа церкви носила чисто формальный характер. Новообращенные своей вере фактически не изменяли, оставаясь язычниками. Средств казенного оклада и платы прихожан за исполнение духовных треб причту церкви не хватало даже на самое скромное существование, отчего он вынужден был, уподобляясь остякам, заниматься охотой, рыболовством и оленеводством. Некоторые священники обеспечивали себе материальный достаток вымогательством у прихожан, другие, наоборот, были подвижниками, они осваивали остяцкий язык и на нем проповедовали и вели церковные службы. Нередко священники женились на остячках, часть детей от этих браков, повзрослев, уходила жить в инородческую среду. Долгое проживание тазовских священнослужителей рядом с остяками оставило заметный след как в аборигенной, так и в местной русской культурах.
Обсуждаются результаты археозоологических исследований культурного слоя г. Екатеринбурга на участке, примыкающем к современному Мытному двору. Материалы работы характеризуют период со второй половины XVIII до конца XIX в. Для исследования костей домашнего скота, которые составляют основу коллекции, были применены общепринятые археозоологические методики. Результаты исследования демонстрируют, что анализируемые материалы с большой степенью вероятности являются отражением обширных поставок скота из степных районов для мясной торговли Екатеринбурга и отходами от ее функционирования. Говядина являлась основным видом мяса, которое потреблялось горожанами. Анализ биологических параметров скота показывает, что на мясной рынок города поступал в основном взрослый и старый скот. В продажу поступало мясо коров, быков и волов. Кости волов являются основным компонентом комплекса костей крупного рогатого скота, у которого возможно провести подобное определение. Большинство изменений на костях животных абсолютно типичны для домашнего скота и имеют возрастной характер. Не исключено, что некоторые кости быков и волов могут происходить от рабочих животных. Находка костяного конька и другие костяные предметы в совокупности с отсутствием традиционных для городов Урала бабок могут отражать более высокий статус людей, проживавших в этой части города. Характерными чертами археозоологических коллекций торговых зон городов Урала и Сибири XVIII-XIX вв. могут быть высокие показатели неопределимых костей, фрагментов стенок трубчатых костей и рогов скота
Рассматриваются подходы к изучению сложносоставных луков, распространенные в археологической литературе. Чаще всего можно встретить ссылки на методику А. М. Савина и А. И. Семенова. Для данных авторов характерен формат тезисов, а не статей. Непосредственно методика описана предельно кратко, фактически, выделены всего два признака: соединение деталей встык и наличие уступа на оборотной стороне. Проверка показывает, что выделенные ими признаки крайне редки, а целью цикла работ были вовсе не луки, а попытка навязать этническое (и на этом основании хронологическое) определение форме погребального обряда. При разделении интересовавших их степных погребений авторы опираются на изменение ориентировки могильных ям, которой приписывается этническое («хазарские» vs «болгарские») значение, а совсем не на луки. В публикациях А. М. Савина и А. И. Семенова нет реальных находок с конкретными отличиями конструкции: нет иллюстраций, перечня (карта его не заменяет), по которому можно было бы проверить выводы. Варианты типологии сложных луков предлагались и другими авторами, часто также преследовавшими цель навязать функциональному предмету этничность. В отдельных работах заметно стремление выделить как можно большее число типов. Наиболее полную сводку находок луков Восточной Европы собрал Е. В. Круглов, формально высказавший приверженность методу А. М. Савина и А. И. Семенова, но при этом полностью изменивший понимание типологических признаков. Метод А. М. Савина и А. И. Семенова не работает. Для конкретных археологических остатков оптимально подходит двухуровневая классификация, в настоящий момент сформулированная В. В. Горбуновым, основанная на принципе количество - форма. Существенно, что говорить о реальном хронологическом значении луков не приходится.
Представлен анализ комплекса погребений кургана № 17 Калашниковского могильника. Материал погребений является хронологически однородным, содержит хроноиндикаторы хронологической группы 3 (по М. Л. Перескокову), относящейся к культурно- хронологическому горизонту Тураево-Кудаш, и соответствуют набору ТК-2 Тураевских курганов (по И. О. Гавритухину). С учетом новейших датировок Тураевских курганов погребения кургана № 17 Калашниковского могильника можно датировать 4-й четвертью IV в. Планиграфия и стратиграфия выявленных на памятнике поселенческих и погребальных комплексов позволяют выявить последовательность их развития на памятнике. Во II-IV вв. н. э. на выступе коренного берега р. Сылвы появляется поселение среднего и позднего этапа гляденовской культуры. Не позднее 3-й четверти IV в. в результате ухудшения и увлажнения климата раннесредневекового пессимума пойму р. Сылвы начинает подтапливать, в результате чего поселение становится непригодным для жизни и его забрасывают. Население переселяется на коренную террасу, где известны Калашниковские I-II селища. В 4-й четверти IV в. на более высоком участке площадки брошенного поселения начинают сооружать курганные погребения, где наиболее ранним из исследованных является курган № 17. Дальнейшее расширение могильника идет в сторону реки по мере того, как уменьшается зона подтопления в V в. н. э., что датируется исследованными погребениями на краю площадки. Зафиксированные экологические процессы являлись существенными факторами трансформации культур Прикамья и изменения моделей адаптации населения в раннем Средневековье.
Тыновые стены были широко распространены в XVII-XVIII вв. как ограды оборонительных сооружений, церквей, амбаров, тюрем, частных усадеб и пр. В связи с этим перед археологами стоит задача правильной интерпретации принадлежности тыновых стен тем или иным видам сооружений. Цель исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, состояла в реконструкции устройства тыновых тюремных оград. Было установлено, что тюрьмы, огороженные тыном, располагались только в крупных городах (административных центрах). Сформирован обобщенный образ тюрьмы как архитектурного сооружения. Реконструкция планировки внутреннего пространства тюрьмы в настоящее время возможна только благодаря единственному сохранившемуся подробному описанию тюрьмы в Белозерске. Установлено, что тюремный тын заглублялся в грунт на существенно большую глубину, чем стены оборонительных сооружений. Высота тына также была увеличенной относительно стен оборонительных сооружений. Для тынин характерно наличие продольного паза для стыковки соседних бревен. Наряду с соединением тынин между собой в «ласточкин хвост» применялось соединение шип - паз как в верхней части стены, так и в нижней. Подробно рассматривается устройство выявленного в ходе археологических раскопок подземного хода в тюрьме в Тобольске. Делается вывод о том, что данный подкоп был предназначен для многократного использования, реконструируются обстоятельства сооружения подземного хода и режим содержания заключенных. В заключение формулируются археологические признаки тюремной тыновой ограды и указывается степень их значимости при интерпретации археологических остатков тыновых стен.
На территории Среднего и Северного Зауралья широко известны необычные культовые насыпные холмы. Все пять известных холмов расположены в восточной низменной части Свердловской области. Это Кокшаровский холм на Юрьинском озере (Верхнесалдинский р-н), Усть-Вагильский холм на р. Тавде, Махтыльский холм на р. Сосьве и два холма на озерах Большой Вагильский Туман и Костюр (все - Гаринский р-н). Все холмы исследованы раскопками в разной степени. Наиболее исследованными являются Кокшаровский и Усть-Вагильский холмы. Частично изучен Махтыльский холм, с остальных холмов имеются небольшие разведочные комплексы. В статье приводится краткая характеристика культовых комплексов всех холмов. Подчеркиваются особенности и отличия жертвенных комплексов. Функционировать холмы начали в мезолите - неолите. На северных холмах присутствуют значительные комплексы неолита, энеолита, раннего железного века и средневековья. На Кокшаровском холме около 95 % находок относится к неолиту. Энеолит и средневековье представлены незначительными комплексами. Жертвенные комплексы состоят из двух частей. Основная масса жертвенных артефактов характеризует разные стороны хозяйственной и производственной деятельности древнего населения. Причем значительная часть артефактов была намеренно сломана. Ко второй части относится небольшое количество предметов неутилитарного характера. Именно они подчеркивают отличия между южным и северными холмами. На северных холмах отсутствуют «утюжки» и фигурные молоты. Молоты заменяются навершиями булав. Сосуды с рельефными налепами единичны. На южном холме полностью отсутствуют подвески, которые на северных холмах представлены сериями. На северных холмах заметно представлена глиняная пластика. Широко практиковалось окрашивание жертвенных предметов охрой. Выявленные различия не позволяют считать все холмы однотипными памятниками. Кокшаровский холм вместе с Юрьинским поселением являлся культовым памятником особого рода. Все холмы первоначально являлись родовыми святилищами, но со временем значение некоторых из них по разным причинам заметно менялось.
Представлены результаты трасологического анализа 25 каменных украшений, происходящих с двух поселений, относящихся к гаринской энеолитической культуре. Это стоянка Чашкинское Озеро II, расположенная в Верхнем Прикамье, и поселение Бор I, находившееся в Среднем Прикамье. Все украшения были изготовлены из серпентинита различной твердости и цвета. В результате анализа на каменных украшениях удалось выделить группы следов постдепозиционного характера (от нахождения в слое), следы изготовления, декорирования и утилизации (ношения). К постдепозиционным следам относится деформация поверхности предметов из-за прикрепления к ним вторичного материала - зерен песка и др. Следы от изготовления представлены абразивной обработкой (шлифовкой), сверлением и отделочной полировкой. К декорированию относится выскабливание или выпиливание желобка с последующей полировкой. Подобный элемент декора ранее не отмечался на украшениях с территории Приуралья. К следам утилизации можно отнести сглаживания поверхности у отверстий и закругленности краев внутренних частей отверстий, расположенных в различных местах. По расположению заполировок и линейных следов реконструируются следующие способы крепления украшений: вертикальный, диагональный, горизонтальный и многолучевой. Поскольку находки данных предметов на большинстве поселений гаринской культуры носят единичный характер и часто несут на себе следы поломки (обычно в районе отверстия), сложно установить, к какому элементу костюма были прикреплены украшения. В связи с этим ставится задача провести экспериментально-трасологическое исследование по производству и ношению каменных украшений.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- ПГНИУ
- Регион
- Россия, Пермь
- Почтовый адрес
- 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15
- Юр. адрес
- 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15
- ФИО
- Германов Игорь Анатольевич (И.о. ректора)
- E-mail адрес
- rector@psu.ru
- Контактный телефон
- +7 (342) 2396326
- Сайт
- http://www.psu.ru