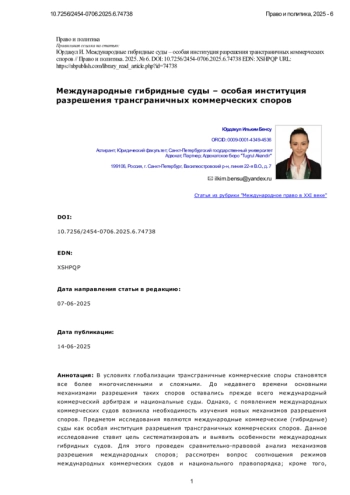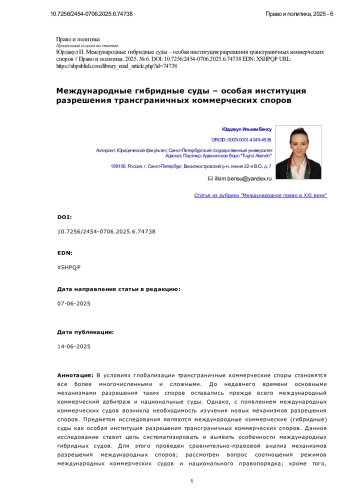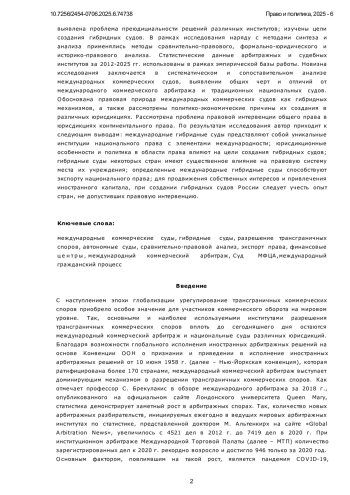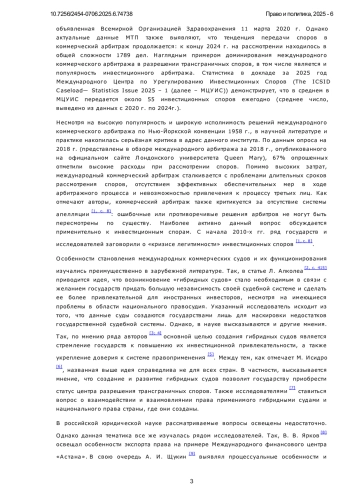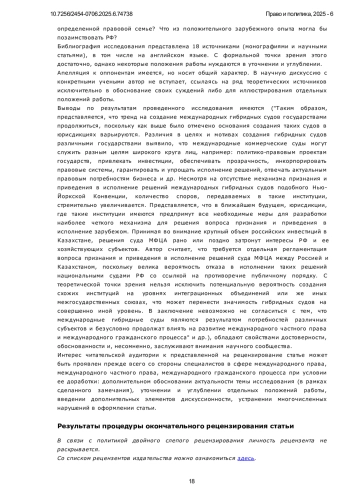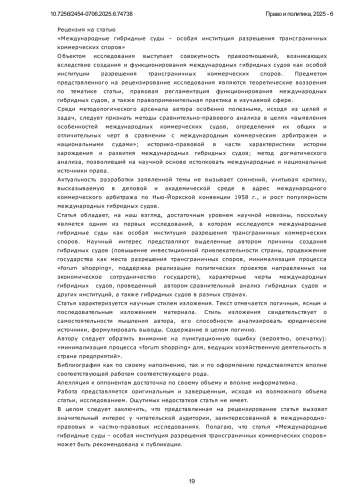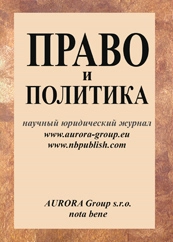В условиях глобализации трансграничные коммерческие споры становятся все более многочисленными и сложными. До недавнего времени основными механизмами разрешения таких споров оставались прежде всего международный коммерческий арбитраж и национальные суды. Однако, с появлением международных коммерческих судов возникла необходимость изучения новых механизмов разрешения споров. Предметом исследования являются международные коммерческие (гибридные) суды как особая институция разрешения трансграничных коммерческих споров. Данное исследование ставит цель систематизировать и выявить особенности международных гибридных судов. Для этого проведен сравнительно-правовой анализ механизмов разрешения международных споров; рассмотрен вопрос соотношения режимов международных коммерческих судов и национального правопорядка; кроме того, выявлена проблема преюдициальности решений различных институтов; изучены цели создания гибридных судов. В рамках исследования наряду с методами синтеза и анализа применялись методы сравнительно-правового, формально-юридического и историко-правового анализа. Статистические данные арбитражных и судебных институтов за 2012-2025 гг. использованы в рамках эмпирической базы работы. Новизна исследования заключается в систематическом и сопоставительном анализе международных коммерческих судов, выявлении общих черт и отличий от международного коммерческого арбитража и традиционных национальных судов. Обоснована правовая природа международных коммерческих судов как гибридных механизмов, а также рассмотрены политико-экономические причины их создания в различных юрисдикциях. Рассмотрена проблема правовой интервенции общего права в юрисдикциях континентального права. По результатам исследования автор приходит к следующим выводам: международные гибридные суды представляют собой уникальные институции национального права с элементами международности; юрисдикционные особенности и политика в области права влияют на цели создания гибридных судов; гибридные суды некоторых стран имеют существенное влияние на правовую систему места их учреждения; определенные международные гибридные суды способствуют экспорту национального права; для продвижения собственных интересов и привлечения иностранного капитала, при создании гибридных судов России следует учесть опыт стран, не допустивших правовую интервенцию.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Политология
- УДК
- 32. Политика
В условиях глобализации трансграничные коммерческие споры становятся все более многочисленными и сложными. До недавнего времени основными механизмами разрешения таких споров оставались прежде всего международный коммерческий арбитраж и национальные суды.
Список литературы
1. Waibel M., Kaushal A., Chung K., Balchin C. The backlash against investment arbitration: Perceptions and Reality. London: Kluwer Law International, 2010. 672 p.
2. Alcolea L. A. The Rise of the International Commercial Court: A Threat to the Rule of Law? // Journal of International Dispute Settlement. 2022. No. 13(3). Pp. 413-442.
3. Сейдимбек А.А. Конституционные реформы в Казахстане для развития МФЦА // Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный аудит. 2018. № 2. С. 111-120.
4. Yip M., Ruhl G. Success and Impact of International Commercial Courts: A First Assessment // Yearbook of Private International Law. Lausanne: Otto Schmidt, 2023. Pp. 45-60.
5. Мороз С.П. Суд МФЦА: вопросы теории и практики // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2020. № 1(59). С. 111-115.
6. Isidro M. International Commercial Courts in the Litigation Market // Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series. 2019. No. 2. Pp. 1-35.
7. Батырбекова Д.С. Действующее право Международного финансового центра “Астана” и его взаимодействие с действующим правом Республики Казахстан // Право и государство. 2021. № 4(93). С. 6-24. DOI: 10.51634/2307-5201_2021_4_6
8. Ярков В.В. Конкуренция правовых систем: миф или реальность? // Вестник гражданского процесса. 2021. Т. 11, № 1. С. 13-29. DOI: 10.24031/2226-0781-2021-11-1-13-29
9. Щукин А.И. Специализированные государственные суды - актуальный форум разрешения международных коммерческих споров // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2021. № 3. С. 175-207. DOI: 10.17323/2072-8166.2021.3.175.207
10. Крупко С.И. Глобальный тренд по созданию специализированных международных коммерческих судов: особенности разрешения вопроса о компетенции // Имущественные отношения в РФ. 2020. № 4(223). С. 67-79. DOI: 10.24411/2072-4098-2020-10406
11. Tiba F. The Emergence of Hybrid International Commercial Courts and the Future of Cross Border Commercial Dispute Resolution in Asia // Loyola University Chicago International Law Review. 2016. No. 14(1). Pp. 31-53.
12. Themeli E. Matchmaking International Commercial Courts and Lawyers’ Preferences in Europe // Erasmus Law Review. 2019. No. 12 (1). Pp. 70-81.
13. Huo Z., Yip M. Comparing the International Commercial Courts of China with the Singapore International Commercial Court // International and Comparative Law Quarterly. 2019. No. 68(4). Pp. 903-942.
14. Transnational commercial disputes in an age of anti-globalism and pandemic / Ed. by S. Menon, A. Reyes. London: Hart Publishing, 2023. 392 p.
15. Theus W. International Commercial Courts: A New Frontier in International Commercial Dispute Resolution? Lessons from the Mixed Courts of the Colonial Era // European Yearbook of International Economic Law, No. 12. Cham: Springer, 2022. Pp. 275-308.
16. Хабриева Т.Я., Андриченко Л.В. Конституционная реформа в Республике Казахстан: тенденции и перспективы развития // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 3 (64). С. 142-155. DOI: 10.12737/article_593fc343e09a66.75343728
17. Gu W., Jacky N. The Global Rise of International Commercial Courts: Typology and Power Dynamics // Chicago Journal of International Law. 2021. No. 22(2). Pp. 443-492.
18. Zhang S. China’s International Commercial Court: Background, Obstacles and the Road Ahead // Journal of International Dispute Settlement. 2020. No. 11(1). Pp. 150-174.
19. Wilske S. International Commercial Courts and Arbitration - Alternatives, Substitutes or Trojan Horse? // Contemporary Asia Arbitration Journal. 2018. No. 11(2). Pp. 153-192.
20. Курочкин С.А. Государственные суды в третейском разбирательстве и международном коммерческом арбитраже. М.: Волтерс Клувер, 2008. 296 p.
21. Бахин С.В. Унификация права и правовая система России // Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры в практике конституционного правосудия: материалы Всероссийского совещания / Под ред. Митюкова М.А., Кабышева С.В., Бобровой В.К., Сычевой А.В. М., 2004. С. 96-103.
22. Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М., 2012. 608 p. EDN: SDTYHD ▼ Контекст
23. Укин С.К., Батырбекова Д.С. Действие актов Центра Международного финансового центра “Астана” и особенности их исполнения во времени, пространстве и по кругу лиц // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2018. № 4 (53). С. 41-49.
24. Born G. International arbitration: law and practice. The Netherlands: Kluwer Law International, 2015. 480 p.
25. Гетьман-Павлова И.В., Касаткина А.С., Филатова М.А. Международный гражданский процесс. М.: Юрайт, 2020. 340 p.
26. Arbitrability: International and Comparative Perspectives / Mistelis L.A., Brekoulakis S.L. Alphen aan den Rijn, 2009. 375 p.
27. Godwin A., Ramsay I., Webster M. International commercial courts: The Singapore experience // Melbourne Journal of International Law. 2017. No. 18(2). Pp. 219-259.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Отечественное уголовное право имеет многовековую историю становления и развития. При этом базовые положения данной отрасли, в том числе определяющие сущность уголовно-правового воздействия, его видовое разнообразие и цели, характеризуются ретроспективной неоднородностью. Обращение именно к начальному этапу как отправной точке генезиса нормативного инструментария публично-властного реагирования на преступные деяния представляет особый научный интерес. В настоящей статье представлены результаты исследования законодательных и правоприменительных аспектов антикриминальной деятельности Российского государства средневекового периода (X-XVII вв.), направленного на выявление особенностей изменяющегося содержания целевых характеристик уголовно-правового воздействия на преступников с учетом эволюции нормативного правового регулирования в отмеченных темпоральных границах, включая положения, формирующие систему наказаний. Методологическую основу исследования представляет диалектический метод познания, а также совокупность общенаучных (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, описание, сравнение) и специально-юридических (историко-правовой, метод толкования правовых норм, формально-юридический, сравнительно-правовой) методов исследования. Итог данной научной работы составляют выводы автора о том, что преобразование целей наказания в средневековой России происходило под влиянием политических, экономических и религиозных факторов, которые обусловили их первичное установление на компенсационных основах, что выразилось в закреплении и применении мер принуждения, направленных преимущественно на возмещение потерпевшему причиненного преступлением вреда, и последующее изменение вектора уголовно-правового воздействия в сторону радикального повышения жестокости и мучительности в целях устрашения как формы общей превенции преступного поведения и, одновременно, «духовного очищения» криминального актора. Полученные результаты способствуют расширению научных представлений о первоначальном периоде истории развития отечественной системы уголовных наказаний и позволят детальнее раскрыть причины и характер ее модернизации через призму постановки целей воздействия на преступника.
Современная эпоха отмечена системным кризисом глобализации, затронувшим не только экономические и политические, но и правовые основания международного взаимодействия. На этом фоне особую значимость приобретает анализ трансформации глобального конституционализма как концепта, формирующего наднациональные механизмы ограничения власти, защиты прав человека и правового упорядочения. Утрата универсальности прежних глобальных институтов, ослабление роли международных норм и нарастающий правовой плюрализм ставят под сомнение возможность сохранения прежней нормативной архитектуры. Глобальный конституционализм, ранее воспринимавшийся как правовой идеал постнационального устройства, в настоящее время испытывает давление регионализации, цивилизационного суверенизма и правовой фрагментации. В этих условиях усиливается необходимость переосмысления его сущности и роли: от универсального нормативного порядка к более гибкой, многоуровневой системе правового взаимодействия. Предметом исследования определяется процесс переопределения нормативных оснований, институциональной структуры и функционального содержания глобального конституционализма в условиях кризиса глобализации. Авторская позиция основывается на анализе современных тенденций изменения глобального правопорядка и их влияния на развитие конституционалистской парадигмы в XXI веке. Исследование опирается на структурно-функциональный, сравнительно-правовой и аксиологический методы, что позволяет провести многоуровневый анализ трансформационных процессов. Использованы как нормативные источники международного и национального права, так и концептуальные разработки зарубежных и отечественных правоведов. Научная новизна исследования заключается в выявлении трехуровневой структуры трансформации глобального конституционализма - нормативной, институциональной и функциональной. Показано, что в условиях кризиса глобализации универсалистские конституционные конструкции уступают место дифференцированным и адаптивным моделям правового регулирования. Обоснована концепция адаптивного конституционализма как правового механизма, способного интегрировать многообразие правовых систем без утраты базовых ценностей. Отмечается изменение роли международных институтов и снижение эффективности традиционных механизмов наднационального правоприменения. Особое внимание уделено юрисдикционным конфликтам и отказу ряда государств от исполнения решений международных органов. Сделан вывод о необходимости формирования нового баланса между глобальной нормативностью и государственным суверенитетом. Представленные выводы обладают не только теоретической значимостью, но и практической ценностью в контексте формирования внешнеполитических и правовых стратегий государств.
Предметом настоящего исследования является феномен юрислингвистической дивергенции, рассматриваемый в контексте правотворческой деятельности как составная часть реализации государственной языковой политики. Основное внимание сосредоточено на правовой терминологии, которая служит средством выражения культурной и правовой идентичности и одновременно подлежит нормативному регулированию в условиях расширяющегося международного правового взаимодействия. Особый интерес представляет механизм институционального закрепления языковых требований к нормативным правовым актам, включая правовую регламентацию процедур лингвистической экспертизы. Исследование охватывает широкий круг вопросов, связанных с соотношением языка и права: от понятийной точности и терминологической согласованности до стилистической выразительности и синтаксической организованности правовых формулировок. На первый план выходят проблемы трансформации правовой системы в условиях технологического прогресса, в том числе необходимость соотнесения терминологической суверенности национального права с унификационными тенденциями международного правопорядка. В исследовании используется дедуктивный метод, позволяющий выстроить анализ от общетеоретических положений о соотношении права и языка к конкретным проявлениям юрислингвистической дивергенции в правотворческой практике. Научная новизна исследования заключается в теоретической разработке концепта юрислингвистической дивергенции как самостоятельного феномена правотворческой деятельности, направленного на институциональное обеспечение языковой идентичности национального законодательства. Впервые выделены структурные признаки дивергентного подхода, позволяющие отграничить его от лингвистической экспертизы, рассматриваемой преимущественно как техническая процедура. Установлено, что юрислингвистическая дивергенция представляет собой осознанную стратегию приоритетного использования русскоязычной правовой терминологии в рамках государственной языковой политики. К числу основных выводов относятся: необходимость перехода к системному подходу при языковом оформлении нормативных правовых актов; развитие образовательных программ по подготовке специалистов в области юрислингвистики; разработка практико-ориентированных рекомендаций, обеспечивающих баланс между юридической точностью и языковой выразительностью правовых текстов; а также повышение ясности и доступности законодательства как условия его легитимности и эффективности.
Предметом исследования данной статьи являются отношения в сфере применения современных геномных технологий, которые могут быть основанием для возникновения такого негативного явления, как дискриминация по генетическим признакам. В статье анализируется, как развитие современных технологий в сфере биологии и медицины влияет на изменение общественных отношений в трудовой сфере, в сфере страхования, спорта и иных сферах общественной жизни, в которых может возникнуть генетическая дискриминация. Стремительный темп изменений, связанных с новыми технологиями, ставит перед обществом и государством задачи противодействия новым рискам, возникающим в этой связи. Обеспечение равенства и недискриминации во всех сферах общественных отношений является важной задачей государства, которая должна быть реализована путем закрепления в национальном законодательстве необходимых дозволений и запретов. При написании статьи использованы общенаучные методы анализа и синтеза, позволившие выявить сущностные характеристики такого явления, как генетическая дискриминация. С помощью методов сравнения и интерпретации проанализированы правовые подходы к ее запрету на международном уровне и в законодательстве отдельных стран. Автор приходит к выводам, что генетическая дискриминация может проявляться как явно, так и в скрытой или косвенной форме, в различных сферах общественной жизни и по своей сути является явлением неоднородным. Эффективное противодействие ей правовыми средствами требует разработки соответствующих мер в самых различных отраслях законодательства - гражданского, трудового, административного, информационного, медицинского и других. Необходимо также проведение исследований для уяснения вопроса - является ли генетическая дискриминация отдельной формой дискриминации со своими особенностями и основанными на них мерами противодействия, или сходна с дискриминацией, с которой сталкиваются инвалиды или хронически больные люди. Важным аспектом использования генетических данных является проблема обеспечения надлежащего баланса между защитой индивидуальных прав граждан и обеспечением публичных интересов, таких как контроль над преступностью и иммиграцией, обеспечением национальной безопасности, а также обеспечением розыска без вести пропавших лиц. Для профилактики возникновения новых форм генетической дискриминации совершенствование законодательства, направленного на ее предупреждение, должно происходить во взаимосвязи с развитием законодательства, регулирующего создание и применение современных генетических технологий.
В статье рассматривается молодежный парламентаризм в России как политический феномен и институциональная форма артикуляции интересов молодежи. Несмотря на тридцатилетний период функционирования молодежных парламентских структур, в политической науке отсутствует единый подход к пониманию их сущности, целей и задач, что обуславливает теоретическую и практическую значимость данного исследования. Актуальность исследования определяется противоречием между институциональным оформлением молодежных парламентских структур и недостаточной теоретической разработанностью концепции молодежного парламентаризма. Объектом исследования выступает молодежный парламентаризм как политический институт и форма политического участия молодежи. Предметом исследования являются сущностные характеристики, цели и задачи молодежного парламентаризма в современной России. Целью статьи является формирование целостной теоретической концепции молодежного парламентаризма на основе анализа существующего аналитического опыта и практики функционирования молодежных парламентских структур в России. Методология исследования основана на социентальном неоинституционализме. Методологический аппарат включает комплексный подход, объединяющий количественные и качественные методы, такие как масштабный онлайн-опрос, глубинные экспертные интервью, фокус-группы, контент-анализ документов, а также методы сетевого анализа и включенного партисипативного наблюдения. Исследование формирует целостную теоретическую концепцию молодежного парламентаризма как политического института и формы участия молодежи, основанную на тридцатилетнем российском опыте. Выявлена дуальная природа феномена в качестве субъекта и объекта политического процесса. Подчеркивается значимость молодежного парламентаризма как механизма вовлечения молодого поколения в политическую жизнь и формирования соответствующей политической культуры. Предложенный оригинальный подход рассматривает молодежный парламентаризм через призму сетевых взаимодействий между различными акторами молодежной политики. Исследование выявило необходимость цифровой трансформации и идеологического осмысления для дальнейшего развития этого института. Отмечается эволюция молодежного парламентаризма от стадии эксперимента и институционального оформления к фазе сущностного осмысления в контексте трансформации политического участия и гражданской активности в цифровую эпоху, когда традиционные формы демократического представительства дополняются новыми практиками вовлечения.
В статье рассматривается геймификация политики, процесс внедрения игровых элементов и механик в политическое пространство, а также использование видеоигр как инструмента влияния на общественное мнение. Предметом исследования являются видеоигры как социокультурный и политический феномен, их роль в формировании общественного мнения и политического просвещения. Цель исследования заключается в изучении роли видеоигр как инструмента влияния на общественное мнение. Авторы стремятся выявить механизмы геймификации политики, оценить потенциал видеоигр в манипуляции общественным сознанием, а также спрогнозировать некоторые тенденции развития данного социокультурного феномена. Задачи исследования включают анализ теоретических аспектов геймификации политики, исследование видеоигр как инструмента политических коммуникаций, оценку их образовательного потенциала и разработку рекомендаций для продвижения национальных интересов. Основная гипотеза исследования заключается в том, что видеоигры являются не только развлекательным продуктом, но и инструментом влияния на общественное мнение, способным к манипуляции сознанием, политическому просвещению и сохранению исторической памяти. Методологической основой исследования является теоретический анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных общественному мнению и геймификации политики. Используются качественные методы, включая кейс-стади (при анализе случаев с видеоиграми). Источники включают академические статьи, статистику игровой индустрии, официальные нормативные-правовые акты и заявления российских властей о регулировании индустрии видеоигр. Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе видеоигр как инструмента формирования общественного мнения и политического просвещения. В статье показано, что видеоигры содержат политические символы, образы и дискурсы, способные вовлекать игроков и влиять на их сознание. Мировой рынок видеоигр оценивается в 185 млрд долларов, а в России 88 млн человек старше 18 лет хотя бы раз пробовали играть в видеоигры. Кейсы, такие как “Black Myth: Wukong“ и “Бессмертная симфония”, демонстрируют образовательный потенциал видеоигр и их влияние на культурные предпочтения. В заключении отмечается, что видеоигры являются важным элементом современных политических коммуникаций и нуждаются в государственной поддержке для создания конкурентоспособных продуктов, особенно в условиях санкций. Рекомендуется развивать механизмы контроля за содержанием видеоигр и продолжать исследования их влияния на политические коммуникации.
Предметом исследования является правовая природа актов Конституционного Суда Российской Федерации, определяемая на основе доктринальных представлений о правовых актах и анализа практики органа конституционной юстиции. Для определения правовой природы актов Конституционного Суда автор обращается к признакам судебного прецедента, а также нормативного, интерпретационного и индивидуального правовых актов и на этой теоретической основе предлагает классификацию актов Конституционного Суда, позволяющую указать их место в системе источников права. Автор обращает внимание на то, что разнообразие видов решений Конституционного Суда не позволяет сделать вывод об одинаковой природе всех его актов. Даже одинаковые по форме решения Конституционного Суда могут иметь различное содержание и, как следствие, обладать разной правовой природой. Методологию исследования составляют формально-юридический (догматический) метод, методы дедукции и систематизации. Догматический метод использовался для анализа актов Конституционного Суда; метод дедукции - для переноса общих характеристик индивидуального, интерпретационного и нормативного актов на отдельные виды актов Конституционного Суда; метод систематизации - для упорядочивания актов Конституционного Суда по отдельным типам. Научная новизна исследования заключается в разработке типологии актов Конституционного Суда (индивидуальные правовые акты, интерпретационные акты и акты смешанной природы, обладающие чертами судебных прецедентов, интерпретационных, индивидуальных и нормативных правовых актов). Новизной обладает и вывод о том, что индивидуальные правовые акты Конституционного Суда не являются источниками права, интерпретационные акты Конституционного Суда являются вторичными источниками права, а смешанные акты Конституционного Суда являются первичными источниками права в той части, в которой они содержат формулировки общих норм права, вторичными источниками права - в той части, в которой они содержат правовые позиции (нормативное толкование), и не являются источниками права в той части, в которой они содержат формулировки индивидуальных предписаний.
Обеспечение прав и законных интересов участников декларируется назначением уголовного судопроизводства. Конституционным способом реализации назначения выступает оказание квалифицированной юридической помощи. Традиционно субъектом оказания этой помощи рассматривается адвокат. Однако с развитием уголовно-процессуальных отношений, появлением новых потребностей в этой сфере, расширяется и круг законных интересов, обеспечение которых должно осуществляться посредством оказания квалифицированной юридической помощи, но уже другими субъектами. Предметом исследования выступают уголовно-процессуальные отношения, затрагивающие права и законные интересы участников уголовного судопроизводства и оказание им в этой связи квалифицированной юридической помощи. Цель данной работы - доказать видовое разнообразие форм оказания квалифицированной юридической помощи и объективную необходимость развития уголовно-процессуальной правосубъектности нотариуса. Методологическая основа работы образована совокупностью традиционных обще- и частно-научных методов, включая диалектику, анализ, в том числе системный и статистический, синтез, сравнительно-правовой, формально-юридический и др. 1) идея о содержательном разнообразии форм и способов оказания квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве, включая отнесение к оказывающим ее субъектам не только адвоката, но и нотариуса; 2) выявлена закономерность в нотариальной деятельности, имеющая самое непосредственное отношение к уголовному судопроизводству: функции нотариуса носят как публично-правовой, так и частно-правовой характер, что обусловливает постановку задачи для дальнейшего исследования о возможности их конструктивного развития для достижения назначения уголовного судопроизводства; 3) дуалистическая сущность правового положения нотариуса в уголовном судопроизводстве обусловливает выдвижение тезиса о межотраслевом законодательном регулировании деятельности субъектов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в уголовном судопроизводстве, доказывается потребность в разработке уголовно-процессуального статуса нотариуса как субъекта оказания квалифицированной юридической помощи. Нотариус должен обладать преимуществами, сопоставимыми с особыми правилами, действующими в отношении адвоката. Предлагается внесение системных изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: новые пункты ст. 5: «14.1) квалифицированная юридическая помощь участникам уголовного судопроизводства» и «20.1) нотариус», с последующим их развитием в рамках самостоятельных статей уголовно-процессуального закона, включая определение уголовно-процессуального статуса нотариуса как субъекта уголовно-процессуальных отношений.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- НБ-МЕДИА
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 115114, г Москва, Даниловский р-н, Павелецкая наб, д 6А, кв 211
- Юр. адрес
- 115114, г Москва, Даниловский р-н, Павелецкая наб, д 6А, кв 211
- ФИО
- Даниленко Василий Иванович (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______