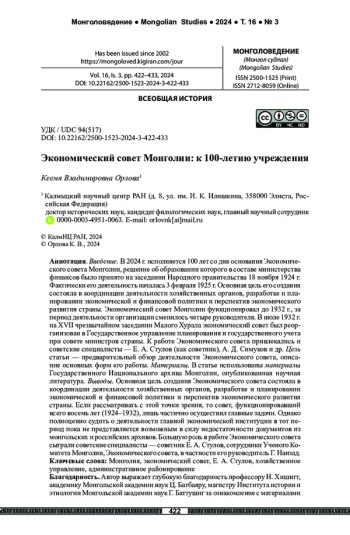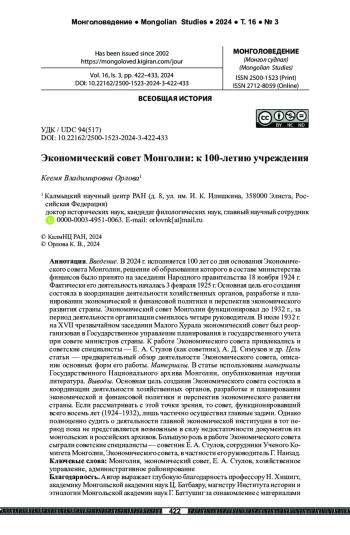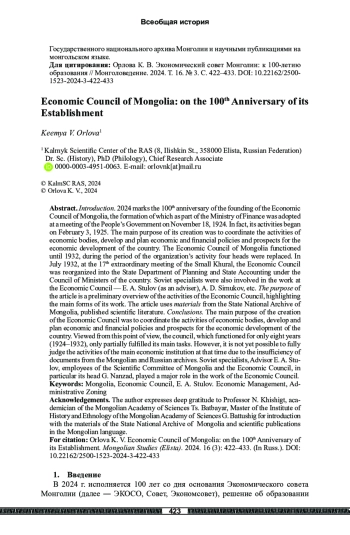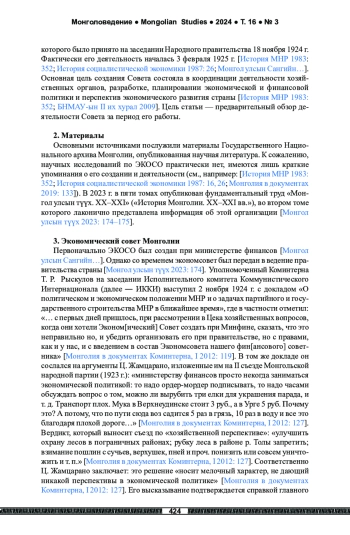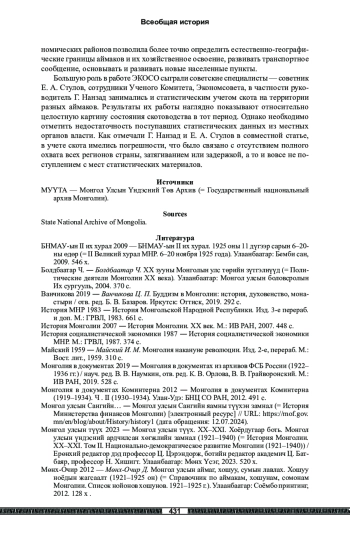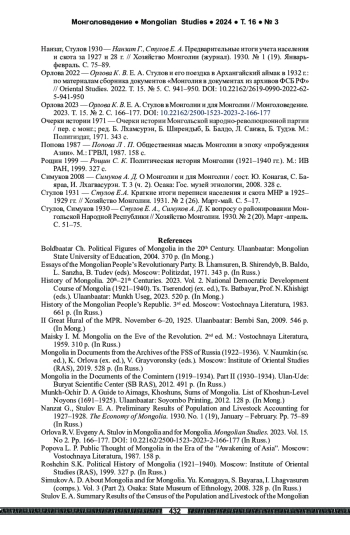Введение. В 2024 г. исполняется 100 лет со дня основания Экономического совета Монголии, решение об образовании которого в составе министерства финансов было принято на заседании Народного правительства 18 ноября 1924 г. Фактически его деятельность началась 3 февраля 1925 г. Основная цель его создания состояла в координации деятельности хозяйственных органов, разработке и планировании экономической и финансовой политики и перспектив экономического развития страны. Экономический совет Монголии функционировал до 1932 г., за период деятельности организации сменилось четыре руководителя. В июле 1932 г. на XVII чрезвычайном заседании Малого Хурала экономический совет был реорганизован в Государственное управление планирования и государственного учета при совете министров страны. К работе Экономического совета привлекались и советские специалисты — Е. А. Стулов (как советник), А. Д. Симуков и др. Цель статьи — предварительный обзор деятельности Экономического совета, описание основных форм его работы. Материалы. В статье использованы материалы Государственного Национального архива Монголии, опубликованная научная литература. Выводы. Основная цель создания Экономического совета состояла в координации деятельности хозяйственных органов, разработке и планировании экономической и финансовой политики и перспектив экономического развития страны. Если рассматривать с этой точки зрения, то совет, функционировавший всего восемь лет (1924–1932), лишь частично осуществил главные задачи. Однако полноценно судить о деятельности главной экономической институции в тот период пока не представляется возможным в силу недостаточности документов из монгольских и российских архивов. Большую роль в работе Экономического совета сыграли советские специалисты — советник Е. А. Стулов, сотрудники Ученого Комитета Монголии, Экономического совета, в частности его руководитель Г. Нанзад.
Introduction. 2024 marks the 100th anniversary of the founding of the Economic Council of Mongolia, the formation of which as part of the Ministry of Finance was adopted at a meeting of the People’s Government on November 18, 1924. In fact, its activities began on February 3, 1925. The main purpose of its creation was to coordinate the activities of economic bodies, develop and plan economic and financial policies and prospects for the economic development of the country. The Economic Council of Mongolia functioned until 1932, during the period of the organization’s activity four heads were replaced. In July 1932, at the 17th extraordinary meeting of the Small Khural, the Economic Council was reorganized into the State Department of Planning and State Accounting under the Council of Ministers of the country. Soviet specialists were also involved in the work at the Economic Council — E. A. Stulov (as an adviser), A. D. Simukov, etc. The purpose of the article is a preliminary overview of the activities of the Economic Council, highlighting the main forms of its work. The article uses materials from the State National Archive of Mongolia, published scientific literature. Conclusions. The main purpose of the creation of the Economic Council was to coordinate the activities of economic bodies, develop and plan economic and financial policies and prospects for the economic development of the country. Viewed from this point of view, the council, which functioned for only eight years (1924–1932), only partially fulfilled its main tasks. However, it is not yet possible to fully judge the activities of the main economic institution at that time due to the insufficiency of documents from the Mongolian and Russian archives. Soviet specialists, Advisor E. A. Stulov, employees of the Scientific Committee of Mongolia and the Economic Council, in particular its head G. Nanzad, played a major role in the work of the Economic Council.
Идентификаторы и классификаторы
- Префикс DOI
- 10.22162/2500-1523-2024-3-422-433
В 1926 г. структура Совета увеличилась до 111 сотрудников: председатель, член Совета, опытный (квалифицированный) член2, регистратор (или учетчик), посыльный, секретарь, переводчик высшей квалификации, помощник, два писца, машинистка, дежурный офицер, пожарный [МУYТА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 31 Л. 3–4]. В том же году общие расходы Совета составили 30 677 тугриков 59 мунгов3, из них на зарплату — 14 340 тугриков, канцелярские расходы — 976 тугриков 22 мунга, квартирные расходы — 1 572 тугрика 50 мунгов, расходы на имущество и ремонт — 10 000 тугриков, иные затраты — 2 788 тугриков 87 мунгов [МУYТА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 31 Л. 1–1об.; Монгол улсын түүх 2023: 175]
Список литературы
1. БНМАУ-ын II их хурал 2009 - БНМАУ-ын II их хурал. 1925 оны 11 дүгээр сарын 6-20-ны өдөр (= II Великий хурал МНР. 6-20 ноября 1925 года). Улаанбаатар: Бемби сан, 2009. 546 х.
2. Болдбаатар Ч. ― Болдбаатар Ч. XX зууны Монголын улс төрийн зүтгэлнүүд (= Политические деятели Монголии XX века). Улаанбаатар: Монгол улсын боловсролын Их сургууль, 2004. 370 с.
3. Ванчикова 2019 ― Ванчикова Ц. П. Буддизм в Монголии: история, духовенство, монастыри / отв. ред. Б. В. Базаров. Иркутск: Оттиск, 2019. 292 с.
4. История МНР 1983 ― История Монгольской Народной Республики. Изд. 3-е перераб. и доп. М.: ГРВЛ, 1983. 661 с.
5. История Монголии 2007 ― История Монголии. XX век. М.: ИВ РАН, 2007. 448 с.
6. История социалистической экономики 1987 ― История социалистической экономики МНР. М.: ГРВЛ, 1987. 374 с.
7. Майский 1959 ― Майский И. М. Монголия накануне революции. Изд. 2-е, перераб. М.: Вост. лит., 1959. 310 с.
8. Монголия в документах 2019 ― Монголия в документах из архивов ФСБ России (1922-1936 гг.) / науч. ред. В. В. Наумкин, отв. ред. К. В. Орлова, В. В. Грайворонский. М.: ИВ РАН, 2019. 528 с.
9. Монголия в документах Коминтерна 2012 ― Монголия в документах Коминтерна (1919-1934). Ч . II (1930-1934). Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2012. 491 с.
10. Монгол улсын Сангийн… ― Монгол улсын Сангийн яамны түүхэн замнал (= История Министерства финансов Монголии) [электронный ресурс] // URL: https://mof.gov.mn/en/blog/about/History/history1 (дата обращения: 12.07.2024).
11. Монгол улсын түүх 2023 ― Монгол улсын түүх. XX-XXI. Хоёрдугаар боть. Монгол улсын үндэсний ардчилсан хөгжлийн замнал (1921-1940) (= История Монголии. XX-XXI. Том II. Национально-демократическое развитие Монголии (1921-1940)) / Ерɵнхий редактор дэд профессор Ц. Цэрэндорж, ботийн редактор академич Ц. Батбаяр, профессор Н. Хишигт. Улаанбаатар: Мөнх Yсэг, 2023. 520 х.
12. Мөнх-Очир 2012 - Мөнх-Очир Д. Монгол улсын аймаг, хошуу, сумын лавлах. Хошуу ноёдын жагсаалт (1921-1925 он) (= Справочник по аймакам, хошунам, сомонам Монголии. Список нойонов хошунов. 1921-1925 г.). Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2012. 128 х .
13. Нанзат, Стулов 1930 - Нанзат Г., Стулов Е. А. Предварительные итоги учета населения и скота за 1927 и 28 г. // Хозяйство Монголии (журнал). 1930. № 1 (19). Январь- февраль. С. 75-89.
14. Орлова 2022 - Орлова К. В. Е. А. Стулов и его поездка в Архангайский аймак в 1932 г.: по материалам сборника документов «Монголия в документах из архивов ФСБ РФ» // Oriental Studies. 2022. Т. 15. № 5. С. 941-950. https://doi.org/10.22162/2619-0990-2022-62- 5-941-950
15. Орлова 2023 - Орлова К. В. Е. А. Стулов в Монголии и для Монголии // Монголоведение. 2023. Т. 15. № 2. С. 166-177. https://doi.org/10.22162/2500-1523-2023-2-166-177
16. Очерки истории 1971 - Очерки истории Монгольской народно-революционной партии / пер. с монг.; ред. Б. Лхамсурэн, Б. Ширендыб, Б. Балдо, Л. Санжа, Б. Тудэв. М.: Политиздат, 1971. 343 с.
17. Попова 1987 - Попова Л . П. Общественная мысль Монголии в эпоху «пробуждения Азии». М.: ГРВЛ, 1987. 158 с.
18. Рощин 1999 - Рощин С. К. Политическая история Монголии (1921-1940 гг.). М.: ИВ РАН, 1999. 327 с.
19. Симуков 2008 - Симуков А. Д. О Монголии и для Монголии / сост. Ю. Конагая, С. Баяраа, И. Лхагвасурэн. Т. 3 (ч. 2). Осака: Гос. музей этнологии, 2008. 328 с.
20. Стулов 1931 - Стулов Е.А. Краткие итоги переписи населения и скота МНР в 1925-1929 гг. // Хозяйство Монголии. 1931. № 2 (26). Март-май. С. 5-17.
21. Стулов, Симуков 1930 - Стулов Е. А., Симуков А. Д. К вопросу о районировании Монгольской Народной Республики // Хозяйство Монголии. 1930. № 2 (20). Март -апрель. С. 51-75.
Boldbaatar Ch. Political Figures of Mongolia in the 20th Century. Ulaanbaatar: Mongolian
State University of Education, 2004. 370 p. (In Mong.)
Essays of the Mongolian People’s Revolutionary Party. B. Lhamsuren, B. Shirendyb, B. Baldo,
L. Sanzha, B. Tudev (eds). Moscow: Politizdat, 1971. 343 p. (In Russ.)
History of Mongolia. 20th–21th Centuries. 2023. Vol. 2. National Democratic Development
Course of Mongolia (1921–1940). Ts. Tserendorj (ex. ed.), Ts. Batbayar, Prof. N. Khishigt
(eds.). Ulaanbaatar: Munkh Useg, 2023. 520 p. (In Mong.)
History of the Mongolian People’s Republic. 3rd ed. Moscow: Vostochnaya Literatura, 1983.
661 p. (In Russ.)
II Great Hural of the MPR. November 6–20, 1925. Ulaanbaatar: Bembi San, 2009. 546 p.
(In Mong.)
Maisky I. M. Mongolia on the Eve of the Revolution. 2nd еd. M.: Vostochnaya Literatura,
1959. 310 p. (In Russ.)
Mongolia in Documents from the Archives of the FSS of Russia (1922–1936). V. Naumkin (sc.
ed.), K. Orlova (ex. ed.), V. Grayvoronsky (eds.). Moscow: Institute of Oriental Studies
(RAS), 2019. 528 p. (In Russ.)
Mongolia in the Documents of the Comintern (1919–1934). Part II (1930–1934). Ulan-Ude:
Buryat Scientific Center (SB RAS), 2012. 491 p. (In Russ.)
Munkh-Ochir D. A Guide to Aimags, Khoshuns, Sums of Mongolia. List of Khoshun-Level
Noyons (1691–1925). Ulaanbaatar: Soyombo Printing, 2012. 128 p. (In Mong.)
Nanzat G., Stulov E. A. Preliminary Results of Population and Livestock Accounting for
1927–1928. The Economy of Mongolia. 1930. No. 1 (19), January – February. Pp. 75–89
(In Russ.)
Orlova R.V. Evgeny A. Stulov in Mongolia and for Mongolia. Mongolian Studies. 2023. Vol. 15.
No 2. Pp. 166–177. DOI: 10.22162/2500-1523-2023-2-166-177 (In Russ.)
Popova L. P. Public Thought of Mongolia in the Era of the “Awakening of Asia”. Moscow:
Vostochnaya Literatura, 1987. 158 p.
Roshchin S.K. Political History of Mongolia (1921–1940). Moscow: Institute of Oriental
Studies (RAS), 1999. 327 p. (In Russ.)
Simukov A. D. About Mongolia and for Mongolia. Yu. Konagaya, S. Bayaraa, I. Lhagvasuren
(comps.). Vol. 3 (Part 2). Osaka: State Museum of Ethnology, 2008. 328 p. (In Russ.)
Stulov E. A. Summary Results of the Census of the Population and Livestock of the Mongolian
People’s Republic in 1925–1929. The Economy of Mongolia. 1931. No. 2 (26). March –
May. Pp. 5–17 (In Russ.)
Stulov E. A., Simukov A. D. On the question of the zoning of the Mongolian People’s Re-
public. The Economy of Mongolia. 1930. No. 2 (20). March – April. Pp. 51–75 (In Russ.)
The History of the Socialist Economy of the MPR. Moscow: Vostochnaya Literatura, 1987.
374 p. (In Russ.)
Vanchikova Ts. P. Buddhism in Mongolia: Нistory, Clergy, Monasteries. B. Bazarov (ed.).
Irkutsk: Ottisk, 2019. 292 p. (In Russ.)
Выпуск
Другие статьи выпуска
Введение. В статье рассмотрена поэтика музыкального инструмента ятх ‘арфа-ятха’ в калмыцком фольклоре и лирике ХХ в. Цель статьи — изучить традицию данного калмыцкого музыкального инструмента в аспекте его отражения в творчестве калмыцких поэтов. Материалы и методы. В качестве материалов привлечены калмыцкий эпос «Джангар», калмыцкие народные сказки, калмыцкие народные песни, в также монгольские легенды, стихи Б. Б. Сангаджиевой, С. Л. Байдыева, Э. Н. Лиджиева 1960-х — начала 1970-х гг. Сравнительно-сопоставительный, историко-функциональный методы, а также метод описательной поэтики, культурологический, музыковедческий подходы обусловили комплексный анализ избранных произведений в данном исследовании. Результаты. Ятха в калмыцком фольклоре манифестируется как священный инструмент, символизирующий неземное и властное начала. Если в эпосе биив ‘кларнет’ и ятх ‘арфа’ представлены как отдельные музыкальные инструменты, на которых играют персонажи и ветер, то в одной калмыцкой сказке и как ‘биив-ятх’, «соединивший», видимо, в себе два инструмента: ‘биваа’ (струнный щипковый инструмент) и ‘ятх’. В калмыцкой лирике прошлого столетия по сравнению с домброй ятхе адресовано меньше произведений. В разножанровых произведениях Б. Б. Сангаджиевой, С. Л. Байдыева и Э. Н. Лиджиева тема ятхи, с одной стороны, связана с темой назначения поэта и поэзии (ятха как лира), с другой — с любовной темой сквозь призму мелодии этого музыкального инструмента. У Б. Б. Сангаджиевой и Э. Н. Лиджиева фигурирует именно ятха, а у С. Л. Байдыева в одном и том же тексте даны два наименования: как ‘ятх’ и как ‘биив-ятх’. На русский язык Н. Н. Матвеевой переведено четверостишие Б. Б. Сангаджиевой, в котором вместо ятхи присутствует лира.
Введение. В статье анализируется языковой ландшафт столицы Монголии Улан-Батора в междисциплинарном теоретико-методологическом контексте: на стыке социолингвистики и лингволандшафтных исследований как ее субдисциплины, социальной семиотики и этнографии. Целью исследования является анализ (1) самих знаков языкового ландшафта и (2) социальных значений, приписываемых языкам жителями Улан-Батора, и языковых идеологий, лежащих в основе социальной индексальности. В работе применялись методы фотофиксации единиц языкового ландшафта в центре Улан-Батора и анкетирования представителей малых бизнесов и обычных горожан. Всего в качестве материала для анализа выступили 576 единиц языкового ландшафта и 100 анкет, собранных в марте 2024 г. Результаты. Синхронный срез языкового ландшафта Улан-Батора показал, что ключевыми «игроками» на языковом «поле» Монголии — как в языковом ландшафте столицы, так и в коллективном сознании жителей являются, помимо государственного монгольского языка, английский язык, за которым следуют китайский, русский и корейский языки; особое символическое значение имеет вертикальное монгольское письмо. За преимущественно монголоязычным ландшафтом с тенденцией к вестернизации были выявлены, с одной стороны, открытость страны и ориентация на международное сотрудничество, с другой — беспокойство людей о будущем монгольского языка, его «чистоте». Анализ показал амбивалентное отношение к английскому и китайскому языкам в языковом ландшафте и вне его, что обусловлено как исторической памятью, так и современными геополитическими факторами. Как определенное «примирение» амбивалентных языковых идеологий интерпретируется гибридная стратегия нейминга, т. е. комбинирование монгольского и английского языка как на официальных, так и неофициальных знаках языкового ландшафта. Такая стратегия нейминга имеет множественное индексальное (на)значение: это и репрезентация монгольской национальной идентичности, и проявление стратегии интернационализации и коммодификации языков. В целом языковой ландшафт Улан-Батора находится в состоянии динамической трансформации, и увеличение символического веса одних языков (английского) и уменьшение других (русского) метонимически отражает вектор развития страны и ее ценностные ориентации.
Введение. Статья посвящена универсальному концепту «родина», занимающему важное место в картине мира калмыков. Цель статьи — описание концепта «родина» в калмыцком языке. Задачи: а) установление его понятийного содержания; б) характеристика его образной и аксиологической составляющих; в) определение постулатов поведения, обусловленных данным концептом. Материал послужили словарные дефиниции языковых единиц, материалы паремиологических словарей, репрезентирующих концепт «родина». В работе применялись методы сравнительного, лексико-семантического, контекстуального и лингвокультурологического анализа. Результаты. Анализ показал, что в калмыцком языке существуют разнообразные средства объективации концепта «родина», которые относятся к базисной лексике, этимологизируются на монгольской языковой почве. Выводы. Ментальный объект «родина» ассоциируется с пространством (һазр, орн), где родился человек (төрскн / төрсн һазр), где он обитает (нутг), с водными источниками (усн). Перцептивный образ родины визуализируется как территория с мягкой землей (җөөлн һазр), зеленой сочной травой (ноһан сөг), теплым воздухом (дулан), целебной водой (аршан). Эӊкр һазр-усн ‘милая родина’, ээҗ-аавин нутг ‘нутуг матушки-отца’ составляет высшую ценность калмыка (төрл эк мет), представляется как «свое пространство» (эврә һазр-усн), противопоставленное «чужой земле» (хәрин һазр). Постулаты поведения калмыка: беречь, любить, прославлять родину, отдать жизнь за родину, служить родине, возвращаться на родину, знать ее обычаи.
Введение. Из всех астральных объектов, видимых на ночном небе, звездное скопление Плеяд (в дальнейшем мы будем обозначать их как созвездие) имело чрезвычайно важное значение в жизни кочевников Внутренней и Центральной Азии. Целью данной статьи является решение двух задач, одна из которых заключается в изучении распространения основных названий Плеяд в тюркских и монгольских языках, выявлении наиболее полной совокупности их версий в разных диалектах, уточнении и дополнении этимологии названий. Другая задача состоит в выявлении и анализе мифологических образов Плеяд, известных на территории расселения тюрко-монгольских народов. Материалы и методы. Источниками исследования стали историко-этнографические данные, опубликованные в работах исследователей ― этнографов, историков, лингвистов — фольклорные материалы, а также материалы полевых исследований автора. В работе используются как общенаучные методы исследования (анализ, аналогия и др.), так и специальные научные (в частности историко-сравнительный) методы исследования. Результаты. В языках тюрко-монгольских народов зафиксированы два названия Плеяд, тюркское ürker / ülker и монгольское mičid, представлены наиболее актуальные этимологические гипотезы, отражающие происхождение тюркского и монгольского названий Плеяд, предложен ряд мифологических образов Плеяд, выявленных в процессе исследования. Выводы. Уникальные образы Плеяд в представлениях тюрко-монгольских народов возникли в процессе взаимодействия разных языков и культур, осмысления и интерпретации разных версий названий Плеяд, интеграции разрозненных сюжетообразующих элементов в мифах, сказках, преданиях.
Введение. В статье рассматривается портрет маньчжурского аристократа хэшо Го-циньвана Юньли (1697–1738) — младшего брата цинского императора Юнчжэна и дяди императора Цяньлуна. Цель исследования — выявить и изучить предметы вооружения и снаряжения центральноазиатского образца на указанном портрете. Результаты. Установлено, что портрет Юньли был написан знаменитым европейским художником-миссионером Дж. Кастильоне в 1735 г., вскоре после возвращения Юньли из поездки к Далай-ламе, которая состоялось зимой-весной того же года. Комплексный анализ источников показал, что хэшо го-циньван сочетает цинскую одежду с деталями снаряжения центральноазиатского образца. К числу таких предметов можно отнести колчан так называемого «ойратского типа», седло «ойратского образца» (элэтэ ши маань), и, возможно, некоторые другие элементы конского убранства. Не исключено, что данные предметы были переданы в дар Юньли представителями ойратской (хошутской) или тибетской знати во время его визита к Далай-ламе в 1735 г. В связи с тем, что рассматриваемый портрет надежно датирован, он может привлекаться для атрибуции и датировки аналогичных или близких по оформлению колчанов и седел ойратов и тибетцев, хранящихся в отечественных и зарубежных музейных и частных собраниях. Выводы. Материалы цинской иконографии в настоящее время недостаточно активно привлекаются для изучения ойратского культурного наследия. Всесторонний анализ цинских изобразительных источников может сыграть важную роль в изучении вооружения, снаряжения, костюма, военной символики и военного дела ойратов и их соседей конца XVII–XVIII вв.
Введение. В последние годы вышли в свет издания, в которых опубликованы письма калмыцких ханов и высшей знати, включающие оттиски их печатей, что несомненно привлекает внимание исследователей. Данные печати, как и другие печати, оттиски которых сохранились на архивных документах, интересны как памятники политической истории калмыцкого народа. До последнего времени неизвестным оставался факт существования подделок печатей калмыцкого хана Аюки, его наследника Чагдорджаба и нойона Лубжи. Цель статьи — ввести в научный оборот сфрагистические данные о подделках печатей Аюки, Чагдорджаба и Лубжи. Материалом для исследования послужила деловая переписка Аюки-хана, Чагдорджаба и нойона Лубжи, датированная XVIII в. Результаты. В ходе исследования представлены данные о трех подделках печатей представителей калмыцкой знати. Все три подделки, видимо, использованы были по какой-то причине в условиях отсутствия доступа к оригинальной печати. И если первая подделка явно выдает себя иной техникой, то вторая и третья являются как зеркальные отражения оригиналов. Все три подделки печатей были использованы представителями высшей знати: женами хана Аюки и его наследника Чагдорджаба, а также внуком Дорджи Назарова (претендента на престол в Калмыцком ханстве после смерти хана Аюки в 1724 г.). Неясна причина использования подделок, наиболее вероятен вариант того, что отсутствовала возможность использования оригинальной печати.
Введение. В статье рассматривается история создания регентом Деси Сангье Гьяцо (1653–1705) свода иллюстраций к «Вайдурья-онбо», являющемуся комментарием «Чжуд-ши» в жанре друдрел (‘bru ‘grel, букв. ‘пословный комментарий’). Вопрос о характере комплектования этих иллюстраций XVII в., получивших в российской историографии название «Атласа тибетской медицины», недостаточно изучен в отечественном востоковедении. Цель статьи ― выявить основные этапы комплектования изобразительного материала «Атласа» и дать общую характеристику иллюстраций. Материалы и методы. Работа основана на анализе сведений текста «Атласа» и тибетских медицинских трактатов, исторических сочинений, а также специальной литературы с привлечением методов источниковедения и сопоставления. Результаты. Выявлено, что процесс создания «Атласа» занял много лет. Деси Сангье Гьяцо занимался комплектованием иллюстраций к «Вайдурья-онбо» в 1687–1702 гг. Для обозначения «иллюстрации» Деси Сангье Гьяцо использует слово трича (bris cha) или нгонме-трича (sngon med kyi bris cha ‘ранее не существовавшая иллюстрация’). Основным источником комплектования «Атласа» послужил изобразительный материал, состоящий из двух групп: традиционные медицинские иллюстрации и новые, специально созданные иллюстрации. В первую группу входят иллюстрации, заимствованные из ранее существовавших текстов жанра дондем (sdong ‘grems ‘древо медицины’), родра (ro bkra, yul thig ‘анатомия’) и дунпе (‘khrungs dpe ‘лекарственное сырье’). Вторую группу составляют новые композиции буддийского и религиозно-мифологического содержания, а также своего рода тибетский реализм ― многочисленные изображения людей в повседневной жизни, созданные специально для иллюстрируемого «Вайдурья-онбо». Создание «Атласа» привело к унификации разрозненных иллюстраций, накопленных в различных медицинских школах Тибета к XVII в. Изобразительный материал и тематический диапазон «Атласа» не ограничиваются медицинской сферой, его художественные и эстетические достоинства требуют дальнейшего исследования.
Введение. Статья посвящена военнослужащим Красной армии из Калмыкии, погибшим, пропавшим без вести, умершим и / или награжденным в боях по обороне Белоруссии в 1941 г. и ее освобождению в 1943–1944 гг., а также историко-статистической реконструкции их коллективного портрета. Материалы и методы. При написании статьи использовался комплекс различных общенаучных и специальных методов, в том числе историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный, а также статистический метод. Материалами для работы послужила делопроизводственная документация воинских частей Красной армии (хранящаяся в электронных банках данных «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа»), в первую очередь донесения о потерях и наградные документы. Результаты. В ходе исследования на основе различных источников была составлена база данных военнослужащих Красной армии из Калмыцкой АССР, которые погибли, пропали без вести, умерли от ран и / или были награждены в боях за Белоруссию летом 1941 г. и в сентябре 1943 г. – сентябре 1944 г. Вслед за этим был осуществлен анализ их коллективного портрета по таким категориям, как место и год рождения, место призыва, время и место гибели, место службы, время и количество награждений. Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о том, что военнослужащие Красной армии из Калмыкии активно участвовали в боях по обороне Белоруссии летом 1941 г. и ее освобождению в 1943–1944 гг. При этом потери в оборонительных боях 1941 г. (среди которых абсолютное большинство составляют попавшие в плен) превышают потери в наступательных боях 1943–1944 гг. Анализ потерь и награждений в 1944 г. показывает, что удельный вес калмыков к началу стратегической операции «Багратион» заметно сократился из-за массового снятия калмыков и их высылке в Широклаг или на места спецпоселений.
Введение. Некоторые аспекты реквизиции бурят на военно-тыловые работы в годы Первой мировой войны продолжают оставаться малоизученными. К одному из них относится вопрос о призыве учащихся буддийских духовных школ и монашествующих. Цель исследования состоит в изучении архивных и других документов, раскрывающих ряд деталей реквизиционного процесса, позицию буддийского духовенства Восточной Сибири по отношению к призыву учащихся. Для ее реализации поставлены следующие задачи: 1) проанализировать статистические сведения о призывниках-учащихся и монашествующих в списках дацанов и инородческих волостей; 2) проследить взаимодействие буддийского духовенства с региональными и центральными властями по вопросам призыва; 3) определить категории учащихся и монашествующих, освобождавшихся от военно-тыловых работ; 4) изучить роль реквизированных представителей бурятской буддийской церкви в деле помощи ламам-лекарям в районе Архангельска. Выводы. Несмотря на ходатайства бурятской буддийской иерархии об освобождении учащихся буддийских духовных школ от военно-тыловых работ, они вместе с монашествующими в количестве 1 597 чел. были направлены в районы Архангельска и Белоруссии, где, помимо основной работы, оказывали посильную помощь ламам-лекарям. Некоторые учащиеся были освобождены по медицинским показаниям или как рабочие и служащие предприятий, работавших на государственную оборону. Освобождение от военно-тыловых работ получали и немногие хувараки, обучавшиеся в Монголии и Тибете.
Введение. В статье рассматривается незатронутая в историографии проблема влияния откочевки из России в Китай в 1771 г. калмыков-торгутов на калмыцкое население Оренбургской губернии. Источниками для ее изучения послужили материалы фонда № 3 «Оренбургская губернская канцелярия» Объединенного государственного архива Оренбургской области. Наряду с документами, содержащими распоряжения оренбургского губернатора И. А. Рейнсдорпа и разного рода адресованные ему донесения, в них представлены показания калмыков, подвергавшихся допросам в канцелярии Яицкого казачьего войска. Большинство архивных документов впервые вводятся в научный оборот. Восстановление канвы рассматриваемых событий посредством привлеченных архивных материалов потребовало использования специальных методов исторического исследования: критического анализа исторических источников, исторической непрерывности, а также историко-сравнительного и историко-правового методов, позволяющих проследить общие и отличные черты в правовом положении калмыцких поселян в Оренбургской губернии. Результаты. Непосредственно вовлеченными в процесс калмыцкой миграции оказались калмыки-казаки Яицкого войска. С подданными наместника Калмыцкого ханства они были связаны родственными и конфессиональными узами. Под влиянием агитации, принуждения или из-за боязни расстаться с семьей часть яицких калмыков присоединилась к откочевке, спровоцированной калмыцкой знатью. Однако среди яицких калмыков были и такие, кто не только не пожелали покинуть Россию, но и помогали преследовать беглецов. Усилия российской администрации по ограничению контактов оренбургских и ставропольских крещеных калмыков не позволили вовлечь их в миграционный поток. Более того, Ставропольское калмыцкое войско пополнилось группой калмыков, отказавшихся от побега и выразивших желание стать православными христианами.
Введение. В статье рассматриваются субрегиональная система «Россия – Монголия – Китай», характер протекания ряда ее внутренних процессов и особенности определяющих его контекстуальных условий. Исследование сфокусировано на определении современных условий ее функционирования и развития транспортно-инфраструктурной области, а также особенностей ее внутреннего межцивилизационного диалога. Задачи исследования — изучение ключевых условий и факторов экономического и цивилизационного характера для более глубокого и многомерного понимания специфики данной субрегиональной системы; попытка сформировать в научно-исследовательском дискурсе модель инкорпорации в разработку субрегиональной проблематики таких разных измерений и плоскостей, как цивилизационные взаимодействия и партнерство в области транспортной инфраструктуры. Материалы и методы. В работе были задействованы монографии и аналитические статьи отечественных и монгольских специалистов и экспертов, стенограммы официальных переговоров на высшем уровне, статистические данные, материалы СМИ. Использован системный подход к предмету исследования в сочитании с цивилизационным подходом, выделившим цивилизационный уровень как одно из измерений данной системы. Результаты. Во-первых, определено современное состояние субрегиональной дискуссии относительно реализации перспективных трехсторонних транспортно-инфраструктурных проектов, взвешены основные риски и возможности. Во-вторых, охарактеризована цивилизационная среда международных отношений в субрегионе, выделены основные векторы ее влияния на процессы, происходящие в настоящее время в области международной торговли, транспорта и инфраструктурного строительства. Делается вывод о позитивном влиянии особенностей межцивилизационного диалога в «треугольнике» по продвижению значимых субрегиональных инициатив.
Введение. В сентябре 1959 г. в Улан-Баторе состоялось знаковое для монгольской науки мероприятие — Первый международный конгресс монголоведов-филологов. Его целью являлось продвижение монголоведных исследований и укрепление контактов ученых, специализирующихся на изучении Монголии. Научный форум собрал участников из многих стран, в том числе разделенных железным занавесом Холодной войны. Цель статьи — рассмотреть подготовку и проведение Конгресса с акцентом на ранее не затрагиваемых идеологических контекстах его работы и значении для укрепления советско-монгольских научных связей. Материалы. Статья базируется на документах Архива РАН (Ф. 681) и публикациях участников Конгресса из СССР, Великобритании и США. Результаты и выводы. Исследование показало, что организаторам Конгресса было важно, чтобы в ходе его работы не возникло политико-идеологических разногласий между представителями разных стран. Их вероятность монгольские ученые обсуждали в 1958 г. с Ю. Н. Рерихом в ходе его командировки в Улан-Батор. Комитет наук МНР при формировании списка приглашаемых ученых учитывал их политические взгляды и консультировался по этому вопросу с Академией наук СССР. Кроме того, в начале работы Конгресса делегации СССР, Монголии и Китая договорились не вступать в дискуссии между собой, чтобы продемонстрировать единство дружеских стран. Автор статьи приходит к выводу, что Конгресс в Улан-Баторе стал одним их первых научных мероприятий монголоведов периода Холодной войны с широким международным представительством ученых из стран, входивших в противостоящие блоки. Несмотря на опасения организаторов, Конгресс продемонстрировал главенство научного интернационализма. Имевшие место несколько случаев «политически окрашенных» разногласий не сказались на его работе как академическом мероприятии. Конгресс также показал значительное расширение международных контактов Комитета наук Монголии на фоне сокращения научных связей с СССР, что косвенно ускорило принятие Академией наук ряда мер по их укреплению.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- КалмНЦ РАН
- Регион
- Россия, Элиста
- Почтовый адрес
- 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. И.К. Илишкина, д. 8
- Юр. адрес
- 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. И.К. Илишкина, д. 8
- ФИО
- Куканова Виктория Васильевна (Директор)
- E-mail адрес
- kukanovavv@kigiran.com
- Контактный телефон
- +7 (847) 2235506