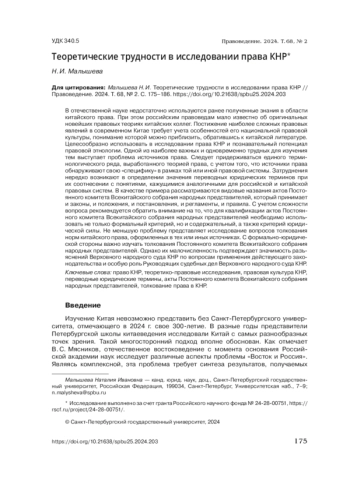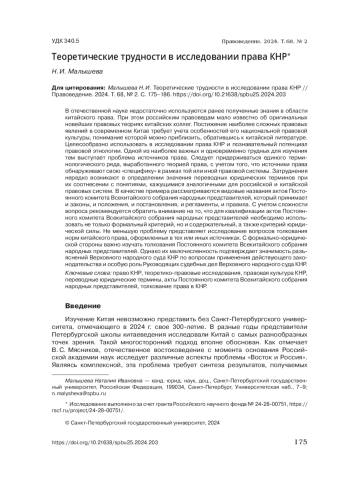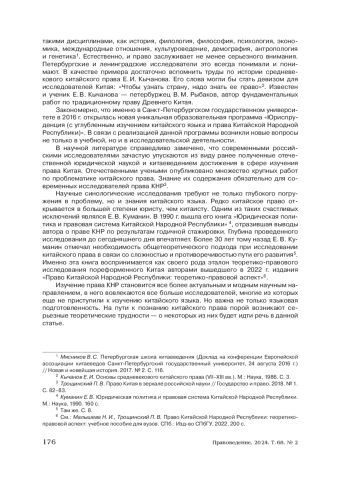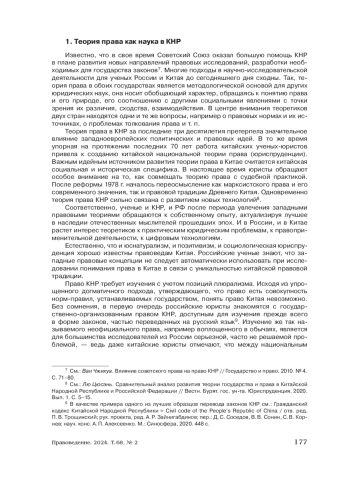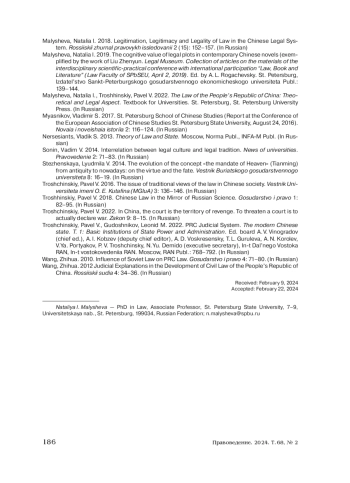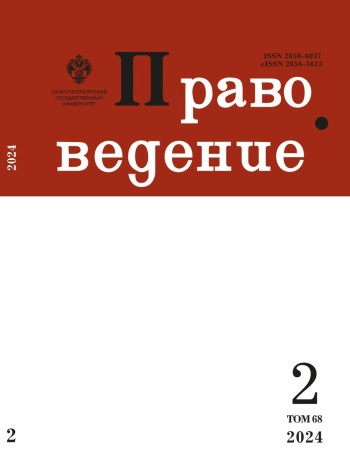В отечественной науке недостаточно используются ранее полученные знания в области китайского права. При этом российским правоведам мало известно об оригинальных новейших правовых теориях китайских коллег. Постижение наиболее сложных правовых явлений в современном Китае требует учета особенностей его национальной правовой культуры, понимание которой можно приблизить, обратившись к китайской литературе. Целесообразно использовать в исследовании права КНР и познавательный потенциал правовой этнологии. Одной из наиболее важных и одновременно трудных для изучения тем выступает проблема источников права. Следует придерживаться единого терминологического ряда, выработанного теорией права, с учетом того, что источники права обнаруживают свою «специфику» в рамках той или иной правовой системы. Затруднения нередко возникают в определении значения переводных юридических терминов при их соотнесении с понятиями, кажущимися аналогичными для российской и китайской правовых систем. В качестве примера рассматриваются видовые названия актов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, который принимает и законы, и положения, и постановления, и регламенты, и правила. С учетом сложности вопроса рекомендуется обратить внимание на то, что для квалификации актов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей необходимо использовать не только формальный критерий, но и содержательный, а также критерий юридической силы. Не меньшую проблему представляет исследование вопросов толкования норм китайского права, оформленных в тех или иных источниках. С формально-юридической стороны важно изучать толкования Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Однако их малочисленность подтверждает значимость разъяснений Верховного народного суда КНР по вопросам применения действующего законодательства и особую роль Руководящих судебных дел Верховного народного суда КНР.
Идентификаторы и классификаторы
Изучение Китая невозможно представить без Санкт-Петербургского университета, отмечающего в 2024 г. свое 300-летие. В разные годы представители Петербургской школы китаеведения исследовали Китай с самых разнообразных точек зрения. Такой многосторонний подход вполне обоснован. Как отмечает В. С. Мясников, отечественное востоковедение с момента основания Российской академии наук исследует различные аспекты проблемы «Восток и Россия». Являясь комплексной, эта проблема требует синтеза результатов, получаемых такими дисциплинами, как история, филология, философия, психология, экономика, международные отношения, культуроведение, демография, антропология и генетика1. Естественно, и право заслуживает не менее серьезного внимания. Петербургские и ленинградские исследователи это всегда понимали и понимают. В качестве примера достаточно вспомнить труды по истории средневекового китайского права Е. И. Кычанова. Его слова могли бы стать девизом для исследователей Китая: «Чтобы узнать страну, надо знать ее право»2. Известен и ученик Е. В. Кычанова — петербуржец В. М. Рыбаков, автор фундаментальных работ по традиционному праву Древнего Китая.
Список литературы
1. Borshch, Irina V. 2013. “Law and literature” in the modern interdisciplinary studies. Gosudarstvo i pravo 9: 73-91. (In Russian).
2. Kumanin, Evgeniy V. 1990. Legal policy and legal system of the People’s Republic of China. Moscow, Nauka Publ. (In Russian).
3. Kychanov, Evgeniy I. 1986. Foundations of Medieval Chinese Law (7th-13th centuries). Moscow, Nauka Publ. (In Russian).
4. Liu, Qiusan. 2017. Customary Law in the System of Sources of Law in Modern China. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 11. Pravo 4: 139-148. (In Russian).
5. Liu, Qiusan. 2020.Comparative analysis of the development of the theory of state and law in the People’s Republic of China and the Russian Federation. Vestnik Buriatskogo gosudarstvennogo universiteta. Iurisprudentsiia 1: 5-15. (In Russian).
6. Liu, Qiusan. 2020. Status and role of the Guiding Court Cases in the People’s Republic of China as case law. Iuridicheskii vestnik Kubanskogo gosudarstvennogo universiteta 1: 2-7. (In Russian).
7. Liu, Zhenyun. 2015. I am not Pan Jinlian. Transl. from Chinese O. P. Rodionova. St. Petersburg, Giperion Publ. (In Russian).
8. Lomanov, Alexander V. 2014. “Soft Power” and the Search for Ways of Chinese Culture Outreach to the Outside World. Chinese civilization in a globalizing world. On the materials of the conference. In 2 vols. Ed. by V. G. Khoros. Vol. I. Moscow, Imemo Ran Publ.: 188-195. (In Russian).
9. Malysheva, Natalia I. 2018. Legitimation, Legitimacy and Legality of Law in the Chinese Legal System. Rossiiskii zhurnal pravovykh issledovanii 2 (15): 152-157. (In Russian).
10. Malysheva, Natalia I. 2019. The cognitive value of legal plots in contemporary Chinese novels (exemplified by the work of Liu Zhenyun. Legal Museum. Collection of articles on the materials of the interdisciplinary scientific-practical conference with international participation “Law, Book and Literature” (Law Faculty of SPbSEU, April 2, 2019). Ed. by A. L. Rogachevsky. St. Petersburg, Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta Publ.: 139-144.
11. Malysheva, Natalia I., Troshhinskiy, Pavel V. 2022. The Law of the People’s Republic of China: Theoretical and Legal Aspect. Textbook for Universities. St. Petersburg, St. Petersburg University Press. (In Russian).
12. Myasnikov, Vladimir S. 2017. St. Petersburg School of Chinese Studies (Report at the Conference of the European Association of Chinese Studies St. Petersburg State University, August 24, 2016). Novaia i noveishaia istoriia 2: 116-124. (In Russian). EDN: YLJOKV
13. Nersesiants, Vladik S. 2013. Theory of Law and State. Moscow, Norma Publ., INFA-M Publ. (In Russian).
14. Sonin, Vadim V. 2014.Interrelation between legal culture and legal tradition. News of universities. Pravovedenie 2: 71-83. (In Russian). EDN: TIWTGP
15. Stezhenskaya, Lyudmila V. 2014. The evolution of the concept “the mandate of Heaven” (Tianming) from antiquity to nowadays: on the virtue and the fate. Vestnik Buriatskogo gosudarstvennogo universiteta 8: 16-19. (In Russian).
16. Troshchinskiy, Pavel V. 2016. The issue of traditional views of the law in Chinese society. Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGIuA) 3: 136-146. (In Russian).
17. Troshhinskiy, Pavel V. 2018. Chinese Law in the Mirror of Russian Science. Gosudarstvo i pravo 1: 82-95. (In Russian). EDN: YMEIQO
18. Troshchinskiy, Pavel V. 2022. In China, the court is the territory of revenge. To threaten a court is to actually declare war. Zakon 9: 8-15. (In Russian). EDN: OMNIOH
19. Troshchinskiy, Pavel V., Gudoshnikov, Leonid M. 2022. PRC Judicial System. The modern Chinese state. Т. 1: Basic Institutions of State Power and Administration. Ed. board A. V. Vinogradov (chief ed.), A. I. Kobzev (deputy chief editor), A. D. Voskresensky, T. L. Guruleva, A. N. Korolev, V. Ya. Portyakov, P. V. Troshchinsky, N. Yu. Demido (executive secretary), In-t Dal’nego Vostoka RAN, In-t vostokovedeniia RAN. Moscow, RAN Publ.: 768-792. (In Russian).
20. Wang, Zhihua. 2010. Influence of Soviet Law on PRC Law. Gosudarstvo i pravo 4: 71-80. (In Russian). EDN: LOZUTP
21. Wang, Zhihua. 2012 Judicial Explanations in the Development of Civil Law of the People’s Republic of China. Rossiiskii sudia 4: 34-36. (In Russian). EDN: OXERRT
Выпуск
Другие статьи выпуска
В статье анализируются правовые аспекты противодействия недобросовестной конкуренции в сфере интернет-финансовых платформ в Китае, которые в основном проявляются в создании таких условий, как сопротивление и непринятие традиционными финансовыми интернет-платформами развивающихся финансовых интернет-платформ; взаимные ограничения интернет-платформ по их использованию пользователями; злоупотребление монопольным положением на рынке интернет-платформ. Автор отмечает, что крупномасштабные платформенные комплексы используют преимущества алгоритмов и технологий анализа крупных массивов персональных данных пользователей для монополизации финансовых рынков, а также беспорядочной экспансии в различных отраслях электронной коммерции, что наносит всеобъемлющий ущерб конкуренции, инновациям, правам и интересам потребителей, а также стабильности финансовой системы страны. В этой связи необходимо в ближайшее время создать и усовершенствовать систему управления финансовым сегментом платформенной экономики. По мнению автора, типизированные средства пресечения антиконкурентного поведения в сфере интернет-финансовых платформ должны проявляться в таких аспектах, как построение механизма антимонопольного надзора за интернет-финансовыми платформами; совершенствование механизма экспертизы регулирующих мер в сфере интернет-финансов; создание и усовершенствование механизма общественного надзора.
Вопросы разрешения внутриплатформенных споров, антимонопольного регулирования деятельности цифровых платформ (агрегаторов), ответственности их операторов (владельцев агрегаторов) перед продавцами и покупателями приобрели в России актуальность. В этой связи важно исследовать правовой статус операторов цифровых платформ и, основываясь на изучении зарубежного права, предложить решения, которые позволят усовершенствовать российское законодательство. Китай является одним из мировых лидеров в области цифровизации и имеет богатый опыт регулирования деятельности операторов цифровых платформ. На основе использования сравнительно-правового метода, а также догматического толкования в данной статье проведен анализ нормативных правовых актов России и КНР, касающихся цифровых платформ. Выделены следующие ключевые признаки цифровой платформы: наличие внутренних правил и программного обеспечения, позволяющего заключать, исполнять сделки, и взаимодействие продавцов и покупателей в связи с ними. Также проведена классификация видов цифровых платформ, изучены права и обязанности операторов цифровых платформ. Основное внимание уделено исследованию правового статуса оператора платформы электронной коммерции. Для этого проведен анализ Закона КНР «Об электронной коммерции» и сложившейся судебной практики по его использованию. Сделан вывод, что в Китае оператор платформы электронной коммерции является активным субъектом рынка, наделенным властно-распорядительными полномочиями в отношении внутриплатформенного бизнеса и несущим обязанности, которые включают в себя информирование продавцов, покупателей и государственных органов, создание инфраструктуры по разрешению споров, защиту владельцев интеллектуальных прав, обеспечение безопасности и качества реализуемых товаров и услуг, поддержание устойчивого функционирования платформы. На основании полученных результатов предложены пути модернизации российского законодательства.
В эпоху быстрого развития больших данных биометрическая технология распознавания лиц, идентифицирующая и подтверждающая личность человека по его лицу, постепенно становится объектом внимания общественности. В КНР данная технология стала незаменимым средством сбора информации для государственных и коммерческих организаций. Технология распознавания лиц может быть использована для быстрой идентификации личности и повышения эффективности и точности работы различных служб. Однако у медали две стороны. Широкое использование технологии распознавания лиц оказало влияние на традиционную систему защиты прав гражданина на изображение лица, поэтому соответствующие законы должны быть усовершенствованы в целях предотвращения утечек изображения лица и злоупотреблений использованием изображения лица. Только синхронное продвижение развития технологии распознавания лиц и совершенствование законодательства может обеспечить дальнейшую защиту права гражданина на изображение лица. В данной статье анализируется применение технологии распознавания лиц и связанные с этим риски, объясняется имеющаяся законодательная основа и ее недостатки в Китае, а также выдвигаются соответствующие предложения по дальнейшей защите собранной информации об изображении граждан в рамках технологии распознавания лиц.
В ходе проводимой в России реформы контрольно-надзорной деятельности вызывают интерес исследования современного правового регулирования осуществления государственного контроля в исторических родственных правопорядках, в частности в КНР. Хотя в Китае отсутствует единый нормативный акт, посвященный порядку, основам и методам осуществления государственного контроля, нормы о нем систематически включаются в различные отраслевые нормативные акты. Помимо прочего могут быть выделены различные виды государственного контроля в КНР: различные отраслевые, центральный и местный, ведомственный и межведомственный. Государство ориентирует контролирующие органы на применение передовых информационных технологий, научно-обоснованных методов планирования и проведения контрольных мероприятий, а также обеспечивает систему управления рисками. На современном этапе развития китайского законодательства можно утверждать о наличии целой системы норм, посвященной государственному контролю в Китае, которая тем не менее не является завершенным правовым институтом. В статье на основе определения следующих административно-правовых норм, как китайский законодатель подходит к решению вопросов о поиске баланса публичных и международных интересов при осуществлении контроля за властью субъектов прошлого посредством нормативного закрепления государственных гарантий прав и законных интересов подконтрольных лиц и конкретизации контроля контролирующих органов, которые все еще имеют место в случаях умеренности и не в полной мере поддерживаются.
По мере развития технологий искусственного интеллекта (далее - ИИ) область его применения в судебной деятельности расширяется. Вспомогательная система вынесения решений с использованием ИИ упрочила свои позиции по всему Китаю и активно применяется судами. Благодаря внедрению данных технологий не только частично решается проблема «большого количества дел и малого числа людей» и повышается судебная эффективность, но и формируется единообразная практика применения законов и упорядочения норм об осуществлении дискреционных полномочий. Предпосылкой для применения технологий ИИ в судебной деятельности является их накопление в достаточном количестве для анализа ИИ, а также упрощение и детализация правил судебного разбирательства. Теория юридических составов и правила применения ИИ в судопроизводстве взаимно дополняют друг друга и могут стать передовой и основной концепцией для всестороннего обучения нейросети, различения ею слов и человеческой речи, проектирования карты знаний. Конкретный способ реализации данной теории заключается в непрерывном выполнении иерархической деконструкции, установлении существования фактов, применении нормативных актов на различных уровнях элементов деконструкции, их иерархическая и поэтапная маркировка экспертами-юристами. Это позволит сформировать карты юридических знаний для машинного обучения на основе больших данных. С этой целью теоретический инструмент модели интеллектуальной вспомогательной системы вынесения решений должен реализовать переход от «юридической логики + искусственный интеллект» к «юридической логике + философия процессуального права + искусственный интеллект», чтобы вспомогательное судебное разбирательство с использованием технологий ИИ действительно могло быть интегрировано в судебную практику.
В статье анализируется развитие медицинской адвокатуры и положение адвоката в китайском обществе древней древности в настоящее время. Для традиционного Китая свойственно негативное отношение к бобному процессу и позитивному праву. Власти стремятся не допускать граждан к решению споров в суде. Вместо этого поощряется обращение к медиативным процедурам, разрешение вопросов в досудебном порядке. Негативное отношение к судебному процессу сформировалось в обществе, неприятие деятельности адвоката. Профессия адвоката в Древнем Китае не пользовалась уважением. За это время у китайцев сложилось устойчивое мнение, что адвокаты стоят на страже интересов виновных лиц, а не на защите невиновного. Адвоката восприняла как сторону, прикрывающую королеву, позволяющую ему избежать справедливого наказания. Адвокатам запрещалось участвовать в процессе, они препятствовали консультированию подзащитных, иногда доходило до их физического уничтожения. В отличие от Запада, в традиционном Китае адвокат относился к категории «плохих» людей и воспринимал его соответствующим образом. После образования в 1949 г. Отношение КНР к адвокатуре не претерпело кардинальных изменений. В период различных разрушительных политических партий (1958-1966 гг.) адвокатура была ликвидирована. после начала «Политики реформы и открытости» (1978) она стала лишь постепенно возрождаться. Государственные адвокаты оказались государственными служащими, лишь позже этот статус был с ними снят. Несмотря на традиционно настороженное отношение к адвокатам в современном Китае эта профессия, хоть и медленно, но набирает популярность. Однако общее количество адвокатов по-прежнему мало, в уголовном процессе они по-прежнему играют важную роль, увеличивая количество обращений граждан за адвокатской помощью в большинстве случаев в гражданском процессе. В современном Китае адвокатуре все еще не придается важная роль, хотя необходимость в ее существовании уже не отрицается. Без участия адвоката сейчас не обойдется ни один уголовный процесс; в гражданском процессе его роль все более продумана. Однако все же статус адвоката не столь высок, как в западных юрисдикциях. Над ним по-прежнему традиционно довлеет неприятие его деятельности со стороны власти и простого народа.
В статье проводится сравнительно-правовой анализ положений Уголовного кодекса РФ и Уголовного кодекса КНР, касающихся института добровольного отказа от совершения преступления. Рассматривается вопрос о природе добровольного отказа от преступления в праве России и Китая. Значительное внимание уделяется анализу условий добровольного отказа как в российском законодательстве, так и в китайском, при этом изучаются условия не только напрямую указанные законодателем, но и разработанные доктриной российского и китайского уголовного права. Изучен вопрос о понимании термина «добровольность» применительно к положениям ст. 31 УК РФ и ст. 24 УК КНР, проведено различие между добровольностью субъективной, т. е. связанной непосредственно с совершающим преступление лицом, и добровольностью, связанной с объективной возможностью лица продолжить совершение преступления. Применительно к положениям ст. 31 УК РФ поднят вопрос о связи добровольного отказа и стадий совершения преступления, делается вывод, что применительно к добровольному отказу речь терминологически идет не о стадиях совершения преступления, а об этапах. Исследуются вопросы окончательности и своевременности добровольного отказа в российском уголовном праве. Указывается, что применительно к ст. 24 УК КНР добровольный отказ бывает двух видов: на этапе приготовительных действий, или на этапе выполнения объективной стороны преступления, а также отказ после выполнения объективной стороны преступления, но до наступления последствий, к которым стремился преступник. Отмечается, что второй вид добровольного отказа не свойствен российскому законодательству, в связи с чем положения ст. 24 УК КНР в значительной мере сходны с институтом деятельного раскаяния в уголовном праве России. В заключение делается вывод о некотором сходстве, но притом и значительном различии добровольного отказа в законодательстве двух стран.
Чтобы обеспечить устойчивость национальной экзаменационной системы, которая является основой социальной мобильности, в Китае в 2015 г. в уголовный закон были внесены новые уголовные санкции за мошенничество на экзамене, и последняя судебная интерпретация этого закона появилась в 2019 г. Анализ соответствующих данных судебных решений за 2015-2019 гг. показал, что все еще существует определенный разрыв между последней судебной интерпретацией и реальными проблемами. Судебное толкование в 2019 г. во многом решило проблемы состава преступлений, связанных со списыванием на экзамене, и уточнило его границы с другими смежными преступлениями. Однако в нем не содержится детальных положений о «серьезных обстоятельствах», что обязательно повлияет на первоначальную цель правового регулирования, заложенную законодателем по превенции противоправных деяний и формировании правомерного поведения. На основе эмпирического исследования таких преступлений в данной статье утверждается, что функции уголовного права по формированию моральных и поведенческих стандартов могут быть раскрыты в полной мере только путем пересмотра стандартов наказания посредством последующего судебного толкования. Такие меры чрезвычайно необходимы и позволят достичь цели, которую преследовал законодатель, вводя ответственность за списывание.
В последние годы в Китае участились случаи насильственных нападений на полицию. Это не только мешает народной полиции выполнять свои обязанности в соответствии с законом, но и серьезно угрожает личным правам и интересам ее сотрудников. Поправки к Уголовному кодексу КНР отделили насильственное нападение на полицию от состава «воспрепятствование исполнению служебных обязанностей». Состав «нападение на полицию» широко применялся в судебной практике с тех пор, как был введен в УК КНР. Данная мера оказала определенное сдерживающее воздействие на преступления против сотрудников полиции: с одной стороны, она эффективно гарантирует непрерывное выполнение полицейскими своих обязанностей, с другой - укрепляет авторитет правоохранительной деятельности и в то же время защищает личные права и интересы сотрудников полиции. Однако обширная судебная практика показывает, что сохраняется много вопросов в судебном применении этого состава преступления, отраженных в основном в понимании «насильственное нападение» и «народная полиция», и разграничения данного состава с другими. Для решения этих проблем необходимо уточнить следующее: во-первых, понятие «насильственное нападение» должно включать в себя как прямое и косвенное насилие в отношении человека, так и причинение вреда вещам, влияющее на непрерывное исполнение должностных обязанностей, но в него не следует включать простое причинение вреда вещи и мягкое насилие; во-вторых, следует признать, что неаттестованные сотрудники полиции и помощники полиции также могут стать объектами преступления, предусмотренного составом «нападение на полицию»; в-третьих, в судебной практике проблемы применения составов преступлений, такие как «нападение на полицию», «воспрепятствование исполнению служебных обязанностей», «умышленное причинение вреда здоровью» и «убийство», разумно разрешаются в соответствии с правилами конкуренции норм или идеальной совокупности.
Роль этнологии и антропологии в российской правовой науке не в полной мере раскрыты. Между тем данные названных наук, облеченные в правовую материю, могут быть использованы для построения механизмов решения вопросов, начиная от сферы рождаемости и заканчивая уголовным преследованием. Авторы настоящей статьи считают, что для принятия обоснованных юридических решений необходимо усилить внимание законодателя к результатам этнологических исследований, организовать и реализовывать рациональную политику в сфере этнологии с учетом этнологического анализа проблемных сфер современной правовой действительности. Обусловлен такой вывод тем, что этнология может предоставить для права данные, например об ухудшении положения того или иного этноса, снижении количества носителей языка, о проблемах функционирования традиционного хозяйствования. Так, опираясь на материалы этнологического исследования, демонстрирующего снижение численности того или иного коренного малочисленного народа в связи с определенной причиной, государство может разработать конкретные целевые меры по сохранению этого народа, в частности предусмотреть финансовые и регуляторные меры, вплоть до установления более жестких санкций административного и уголовного законодательства за посягательство на права граждан, представляющих национальность, которая находится на грани исчезновения. Авторы статьи аргументируют, что материалы этнологических исследований должны стать для законодателя дорожной картой при разработке нормативных правовых актов, касающихся защиты прав коренных малочисленных народов, их поддержки, а также развития их культурной автономии. В этой связи следует разработать концепцию, которая определит место этнологии в законотворческом процессе, выявит цели, направления в правотворчестве для использования материала, собранного этнологами, укажет на уязвимые и исчезающие народы России, для сохранения которых необходимо разработать специальные механизмы защиты, внедрить новые меры поддержки либо дополнить уже имеющиеся.
Данная статья посвящена исследованию правовой природы Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, определению роли и влияния данного документа стратегического планирования на правовую систему Российской Федерации. Авторы приходят к выводу, что названные Основы государственной политики представляют собой политико-правовой акт, который в силу специфической природы закрепляемых им ценностей обладает особой юридической значимостью в правовой системе России. Во-первых, от многих других стратегических документов рассматриваемые Основы государственной политики отличаются с формальной точки зрения тем, что были утверждены Указом Президента РФ, который в соответствии с Конституцией РФ наделен полномочием определять направления внешней и внутренней политики страны. Во-вторых, с содержательной точки зрения данный стратегический акт апеллирует к тем ценностям, которые предшествуют по своей значимости и природе даже самому конституционному акту. Соответственно, они не были установлены стратегическим документом, но были лишь выражены им. Благодаря правовой форме данные ценности получили дополнительные инструменты по защите и реализации. По причине фундаментального характера традиционных ценностей их цельное претворение в социальные практики требует широкого вовлечения в осуществление правовой политики гражданского общества и его институтов, в особенности университетов и научно-исследовательских центров.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- СПБГУ
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9
- Юр. адрес
- 199034, г Санкт-Петербург, Василеостровский р-н, Университетская наб, д 7/9
- ФИО
- Кропачев Николай Михайлович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- spbu@spbu.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 3282000
- Сайт
- https://spbu.ru/