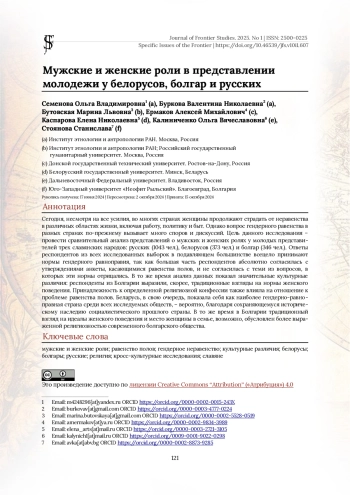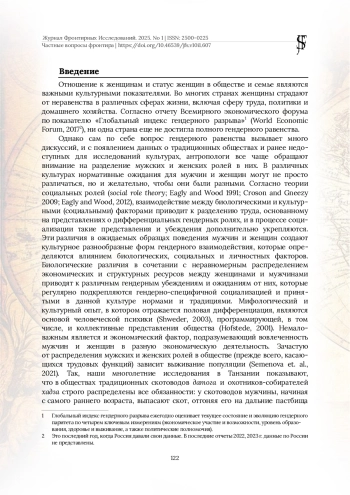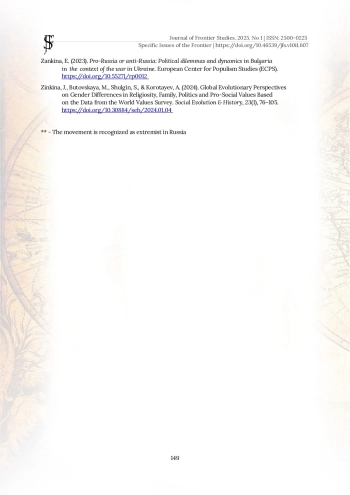Сегодня, несмотря на все усилия, во многих странах женщины продолжают страдать от неравенства в различных областях жизни, включая работу, политику и быт. Однако вопрос гендерного равенства в разных странах по-прежнему вызывает много споров и дискуссий. Цель данного исследования – провести сравнительный анализ представлений о мужских и женских ролях у молодых представителей трех славянских народов: русских (1043 чел.), белорусов (373 чел.) и болгар (346 чел.). Ответы респондентов из всех исследованных выборок в подавляющем большинстве всецело принимают нормы гендерного равноправия, так как большая часть респондентов абсолютно согласилась с утверждениями анкеты, касающимися равенства полов, и не согласилась с теми из вопросов, в которых эти нормы отрицались. В то же время анализ данных показал значительные культурные различия: респонденты из Болгарии выразили, скорее, традиционные взгляды на нормы женского поведения. Принадлежность к определенной религиозной конфессии также влияла на отношение к проблеме равенства полов. Беларусь, в свою очередь, показала себя как наиболее гендерно-равноправная страна среди всех исследуемых обществ, – вероятно, благодаря сохраняющемуся историческому наследию социалистического прошлого страны. В то же время в Болгарии традиционный взгляд на идеалы женского поведения и место женщины в семье, возможно, обусловлен более выраженной религиозностью современного болгарского общества.
Идентификаторы и классификаторы
Отношение к женщинам и статус женщин в обществе и семье являются важными культурными показателями. Во многих странах женщины страдают от неравенства в различных сферах жизни, включая сферу труда, политики и домашнего хозяйства. Согласно отчету Всемирного экономического форума по показателю «Глобальный индекс гендерного разрыва»1 (World Economic Forum, 20172), ни одна страна еще не достигла полного гендерного равенства.
Список литературы
- Ådnanes, M. (2001). Youth and Gender in Post-Communist Bulgaria. Journal of Youth Studies, 4(1), 25-40. https://doi.org/10.1080/13676260120028538
- Andrychuk, G. (2022). Gender and LGBTQI+** Politics in the 2020 Belarusian Movement [Diploma Thesis]. Charles University.
- Bell, A. C., & Burkley, M. (2014). “Women Like Me Are Bad at Math”: The Psychological Functions of Negative Self‐Stereotyping. Social and Personality Psychology Compass, 8(12), 708–720. https://doi.org/10.1111/spc3.12145
- Croson, R., & Gneezy, U. (2009). Gender Differences in Preferences. Journal of Economic Literature, 47(2), 448–474. https://doi.org/10.1257/jel.47.2.448
- Darakchi, S. (2019). “The Western Feminists Want to Make Us Gay”: Nationalism, Heteronormativity, and Violence Against Women in Bulgaria in Times of “Anti-gender Campaigns.” Sexuality & Culture, 23(4), 1208–1229. https://doi.org/10.1007/s12119-019-09611-9
- Doğangün, G. (2020). Gender Climate in Authoritarian Politics: A Comparative Study of Russia and Turkey. Politics & Gender, 16(1), 258–284. https://doi.org/10.1017/S1743923X18000788
- DuBois, L. Z., & Shattuck‐Heidorn, H. (2021). Challenging the binary: Gender/sex and the bio‐logics of normalcy. American Journal of Human Biology, 33(5), e23623. https://doi.org/10.1002/ajhb.23623
- Eagly, A. H., & Wood, W. (1991). Explaining Sex Differences in Social Behavior: A Meta-Analytic Perspective. Personality and Social Psychology Bulletin, 17(3), 306–315. https://doi.org/10.1177/0146167291173011
- Eagly, A. H., & Wood, W. (2012). Social Role Theory. In P. Van Lange, A. Kruglanski, & E. Higgins, Handbook of Theories of Social Psychology (pp. 458–476). SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446249222.n49
- Edenborg, E. (2023). Anti-Gender Politics as Discourse Coalitions: Russia’s Domestic and International Promotion of “Traditional Values.” Problems of Post-Communism, 70(2), 175–184. https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1987269
- Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 878–902. https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.6.878
- Fors Connolly, F., Goossen, M., & Hjerm, M. (2020). Does Gender Equality Cause Gender Differences in Values? Reassessing the Gender-Equality-Personality Paradox. Sex Roles, 83(1–2), 101–113. https://doi.org/10.1007/s11199-019-01097-x
- Gapova, E. (2002). On Nation, Gender, and Class Formation in Belarus … and Elsewhere in the Post-Soviet World. Nationalities Papers, 30(4), 639–662. https://doi.org/10.1080/00905992.2002.10540511
- Global Gender Gap Report. (2017). World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
- Global Gender Gap Report. (2023). World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf
- Haines, E. L., Deaux, K., & Lofaro, N. (2016). The Times They Are a-Changing … or Are They Not? A Comparison of Gender Stereotypes, 1983–2014. Psychology of Women Quarterly, 40(3), 353-363. https://doi.org/10.1177/0361684316634081
- Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. SAGE Publications.
- Johnson, J. E. (2023). Authoritarian Gender Equality Policy Making: The Politics of Domestic Violence in Russia. Politics & Gender, 19(4), 1035–1060. https://doi.org/10.1017/S1743923X2300003X
- Lomazzi, V., & Soboleva, N. (2024). Polarization of gender role attitudes across Europe. Journal of Contemporary European Studies, 32(4), 1192–1211. https://doi.org/10.1080/14782804.2024.2327846
- Martin, C. L., & Ruble, D. (2004). Children’s Search for Gender Cues: Cognitive Perspectives on Gender Development. Current Directions in Psychological Science, 13(2), 67–70. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00276.x
- Miller, A. S., & Stark, R. (2002). Gender and Religiousness: Can Socialization Explanations Be Saved? American Journal of Sociology, 107(6), 1399–1423. https://doi.org/10.1086/342557
- Ridgeway, C. L. (2001). Gender, Status, and Leadership. Journal of Social Issues, 57(4), 637–655. https://doi.org/10.1111/0022-4537.00233
- Satymbekova, T. (2016). Female Political Participation and Barriers That Women Face In Politics: Lessons from Post-Soviet Kazakhstan and Belarus [Master Thesis]. Nazarbayev University.
- Semenova, O., Apalkova, J., & Butovskaya, M. (2021). Sex Differences in Spatial Activity and Anxiety Levels in the COVID-19 Pandemic from Evolutionary Perspective. Sustainability, 13(3), 1110. https://doi.org/10.3390/su13031110
- Shchurko, T. (2018). ‘Gender education’ in the post-Soviet Belarus: Between authoritarian power, neoliberal ideology, and democratic institutions. Policy Futures in Education, 16(4), 434–448. https://doi.org/10.1177/1478210317719779
- Shweder, R. A. (2003). Why Do Men Barbecue?: Recipes for Cultural Psychology. Harvard University Press.
- Spence, J. T., Helmreich, R., & Stapp, J. (1973). A short version of the Attitudes toward Women Scale (AWS). Bulletin of the Psychonomic Society, 2(4), 219–220. https://doi.org/10.3758/BF03329252
- Stark, R. (2002). Physiology and Faith: Addressing the “Universal” Gender Difference in Religious Commitment. Journal for the Scientific Study of Religion, 41(3), 495–507. https://doi.org/10.1111/1468-5906.00133
- Stoyanova, S. (2005). Stereotypes of gender roles and role distribution in the family. In S. Dzhonev, S. Dimitrova, P. Nikolov, T. Yancheva, K. Gaidarov, V. Rusinova, P. Dimitrov, & R. Velcheva (Eds.), Third National Congress in Psychology (pp. 268–275). Sofi-R.
- Szołtysek, M., Klüsener, S., Poniat, R., & Gruber, S. (2017). The Patriarchy Index: A New Measure of Gender and Generational Inequalities in the Past. Cross-Cultural Research, 51(3), 228–262. https://doi.org/10.1177/1069397117697666
- Yusupova, M. (2023). Coloniality of Gender and Knowledge: Rethinking Russian Masculinities in Light of Postcolonial and Decolonial Critiques. Sociology, 57(3), 682–699. https://doi.org/10.1177/00380385221110724
- Zankina, E. (2023). Pro-Russia or anti-Russia: Political dilemmas and dynamics in Bulgaria in the context of the war in Ukraine. European Center for Populism Studies (ECPS). https://doi.org/10.55271/rp0012
- Zinkina, J., Butovskaya, M., Shulgin, S., & Korotayev, A. (2024). Global Evolutionary Perspectives on Gender Differences in Religiosity, Family, Politics and Pro-Social Values Based on the Data from the World Values Survey. Social Evolution & History, 23(1), 76–105. https://doi.org/10.30884/seh/2024.01.04
- Бабосов, Е. М., Арчаков, В. Ю., & Баньковский, А. Л. (2021). Кому выгодно внедрение западных социальных стандартов? Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук, 66(4), 402–410. https://doi.org/10.29235/2524-2369-2021-66-4-402-410
- Бутовская, М. Л., Карелин, Д. В., & Буркова, В. Н. (2012a). Датога Танзании сегодня: Экология и культурные установки. Азия и Африка сегодня, 22, 51–55.
- Бутовская, М. Л., Карелин, Д. В., & Буркова, В. Н. (2012b). Традиционные скотоводы Восточной Африки сегодня: Репродуктивный успех, плодовитость, детская смертность и благосостояние датога Северной Танзании. Вестник Московского Университета. Серия 23: Антропология, 4, 70–83.
- Ганева, З. Р. (2010). Важность религиозной идентичности для болгарского и ромского населения. Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств, 1, 60–65.
- Иванов, А. В., & Козлов, В. Е. (2021). Социокультурные аспекты гендерного конфликта в радикальных сетевых сообществах Рунета (по материалам полевого исследования). Казанский педагогический журнал, 4(147), 264–270.
- Население и демографски процеси. (2023). Национален статистически институт Республики България. https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2021_ethnos.pdf (На болгарском)
- Национальный состав. (2021). Росстат. https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami
- Перепись населения. (2019). Белстат. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-2019/infografika-i-plakaty/
- Стоянова, С. (2005). Стереотипи за половите роли и разпределение на ролите в семейството. В С. Джонев, С. Димитрова, П. Николов, Т. Янчева, К. Гайдаров, В. Русинова, П. Димитров, & Р. Велчева (Ред.), ІІІ Национален конгрес по психология (сс. 268–275). София: Софи-Р.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Целью статьи является изучение интеллектуальной истории концепции средневекового стазиса, заимствованной из академической медиевистики и привнесенной в современный массовый культурный медиевализм. Медиевистика и медиевализм, воспринимая, воображая, изобретая и конструируя средние века различно, могут использовать одни и те же концепции. В представленной статье проанализированы, с одной стороны, проблемы постепенной ревизии теории средневекового стазиса в академической медиевистике, и особенности его позитивной идеализации в медиевализме, с другой. Автор анализирует, как историки воспринимали характеристики «стабильности» в социально-экономической и политической истории средневековья в академической историографии, постепенно признавая особую и уникальную историческую динамику, свойственную для средних веков. Показано, что современный медиевализм не смог полностью ассимилировать концепцию средневекового стазиса, интегрировав в собственный интеллектуальный дискурс только те ее положения, которые позволяют конструировать образ средних веков как исключительно стабильного периода, когда социальные и политические изменения не только невозможны, но и излишни. В статье показано, что 1) концепция средневекового стазиса в современной медиевистике воспринимается критически как часть интеллектуальной истории изучения средневековья, 2) медиевализм воспринимает стабильность феодального строя как его положительную характеристику, 3) использование концепции средневекового стазиса в современном медиевализме позволяет конструировать чрезмерно хронологически пролонгированные образы средних веков, 4) в рамках идеализации средневековья современный медиевалистский дискурс синтезирует «реальное» и «волшебное», что ограничивает развитие их нарративной структуры и трансформацию социальных, экономических и политических отношений и институтов, 5) архаичное видение средних веков через призму концепции стазиса подтверждает ограниченность познавательных возможностей медиевализма.
Статья посвящена исследованию административно-правового устройства Нарвы в орденский период и изучению его влияния на развитие торгово-экономического потенциала города в контексте русско-ливонской торговли. С использованием методов дескриптивной (описательной) статистики была предпринята попытка восстановить структуру административного аппарата Нарвы XV века и представить распределение полномочий между городскими и орденскими властями, что помогло определить торгово-экономическую стратегию администрации города в контексте русско-ливонских отношений и ответить на вопрос о причинах, позволивших небольшому приграничному городку успешно конкурировать с более сильными участниками русско-ливонской торговли.
Взаимоотношения орденских и городских властей Нарвы можно охарактеризовать как сотрудничество, что благоприятно сказалось на развитии торговли Нарвы. Причины заинтересованности членов магистрата в развитии торговли стоит искать, в первую очередь, в социальном составе бургомистров и ратманов, большая часть которых непосредственно принадлежала к купеческой среде или была с ней связана. Фогты же (орденская администрация) были заинтересованы в развитии торговли Нарвы как в силу своих должностных обязанностей в рамках общей экономической политики ордена-ландсгерра, так и личных экономических интересов – они являлись активными участниками русско-ливонской и ганзейской торговли. Обладая разными мотивами, как магистрат, так и фогты были заинтересованы в развитии городской торговли и поддержании торгово-экономических связей с Новгородом и Псковом, что напрямую нашло отражение в поддержке так называемой «необычной торговли», т. е. торговли, ведущейся в обход ганзейских традиций и правил – именно ее развитие и позволило городу укреплять свои экономические позиции, особенно в периоды осложнения отношений между Россией и ливонскими ганзейскими городами.
В статье на основании документальных материалов исследуется процесс заселения северо-восточного берега Черного моря в 1830–1850-х гг. Методологической основой изучения выступает концепция фронтира Ф. Тёрнера. Внимание сосредоточивается на анализе таких положений концепции, как постоянная миграция населения, преобразование дикой местности, выдвижение «языков» населенных районов, использование государственных земель. Такой подход к проблеме позволяет определить схожие и различные процессы, возникавшие в период освоения пограничных североамериканских и северокавказских земель. Цель исследования – изучение особенностей заселения и освоения северо-восточного берега Черного моря как одного из исторических районов современного Краснодарского края сквозь призму концепции фронтира Ф. Тёрнера. Сопоставление американского освоения пограничных земель и опыта российского заселения северо-восточного берега Черного моря позволило выявить схожие и различные процессы, наблюдавшиеся в 1830–1850-х гг. Российская миграция на фронтир носила управляемый характер. Интенсивность преобразования дикой местности была достаточно высока. Освоение российского пограничья также достигалось благодаря выдвижению «языков» населенных районов. Государственная земля использовалась для безвозмездного наделения анапских и закубанских переселенцев. Статья предназначена для специалистов-историков и всех, кто интересуется заселением северо-восточного берега Черного моря.
Астраханские юртовские татары тесно контактировали с народами Центральной Азии в XVI-XVIII вв. На отношения с ближайшими географическими соседями (ногайцами, калмыками, казахами) накладывала отпечаток внешнеполитическая обстановка, в зависимости от которой периоды конфронтации астраханских татар с кочевыми народами сменялись мирным сосуществованием. С жителями центрально-азиатских ханств у астраханских татар были выстроены более прагматичные отношения. Астраханские татары поддерживали с ними прямые торговые контакты, осуществляя сделки, как в Астрахани, так и совершая караванные поездки в Хиву и Бухару. Благодаря тесному взаимодействию между ними складывались порой доверительные и родственные отношения.
В данной статье «Дневник Анны Франк» рассматривается через призму темы «границы», с особым акцентом на изучение пределов и способности восстанавливаться после трудных ситуаций. Анна Франк, еврейская девочка-подросток, задокументировала свои переживания во время Второй мировой войны, предоставив уникальное понимание сложности человеческого существования перед лицом тяжелых испытаний. В дневнике тема границ исследуется с различных точек зрения: идентичности, пространства, страха, мужества, человечности и надежды. Исследование глубоко анализирует мысли и диалоги Анны, внимательно рассматривая, как она преодолевала эмоциональные, физические и личные границы в условиях укрытия. Кроме того, изучается литературная значимость дневника в преодолении культурных и поколенческих барьеров, что подчеркивает его непреходящее значение в осмыслении человеческой стойкости и стремления к лучшему миру. Журнал Анны Франк отражает процесс её самопознания и формирования чувства собственного «я». Анна и другие обитатели убежища переживают заточение, ограниченность передвижения и постоянный риск обнаружения. Физические границы влияют на их отношения, взаимодействие и эмоциональное состояние, подчеркивая трудности жизни в тайне.
Статья посвящена реконструкции исторического опыта организации хозяйственного управления в пределах территорий Войска Донского и Азовского казачьего войска во второй половине XIX столетия. Проблема исследования – устранение лакун в научном знании в части формирования объективного восприятия казачества не только в качестве особого служилого сословия, но и как сложной социально-экономической системы. Целью исследования является анализ особенностей управления хозяйственной сферой в казачьих войсках. Его источниковую базу составляет делопроизводственная документация правлений Войска Донского и Азовского казачьего войска, отложившаяся в фондах Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного военно-исторического архива. Выбор географических рамок исследования определен высокой актуальностью проблем военной защиты южных рубежей России в прошлом и сопряженных с ними вопросов экономики вооруженных сил, призванных обеспечивать оборону периферийных территорий. Закупки хлеба через торги для чинов казачьих войск были связаны с проблемами установления цен, как отвечавших интересам военного ведомства, так и занимавшихся снабжением торговых людей. Обширность территории Войска Донского определяла необходимость в развитии дорожной и почтовой инфраструктуры. Местная промышленность в основном занималась переработкой сельскохозяйственной продукции. Особое значение ввиду развития рыбного промысла имели рыбоспетные заводы. Возведение сооружений требовало создания условий для производства строительных материалов, для чего устраивались кирпичные заводы. Такого рода предприятие было построено в Азовском казачьем войске для восстановления зданий, разрушенных в результате обстрелов англо-французской эскадрой в ходе Крымской войны 1853–1856 гг. Сделан вывод о том, что хозяйственное управление в пределах казачьего фронтира представляло собой сложный комплекс организационно-распорядительных мер.
Статья содержит обзор исследовательских практик XIX – начала XX в. проблемы колонизации России, понимаемой как естественное заселение и хозяйственное освоение пустовавших или малозаселенных территорий Севера Евразии. Среди задач поставлены выявление представлений ученых о характере освоения территории страны, влиянии на этот процесс природно-географической среды, понимания роли колонизации в формировании российского государства, а также оценка значения теории колонизации для историографии. Круг источников составили научные труды более двух десятков ученых. Среди их авторов мыслители разных научных школ и направлений, что позволило рассмотреть широкий диапазон подходов к пониманию феномена колонизации России. Уделено внимание анализу как интегрального, так и регионального осмысления колонизационного процесса. Теоретико-методологической основой для исследования послужила концепция «пространственного поворота». Показано, что теория колонизации оказалась продуктивной для выявления особенностей исторической эволюции России через призму ее территориального роста и географических условий. Дореволюционными учеными отмечено, что расширению страны содействовала большая емкость пространства северо-восточной части европейского континента. Подчеркивался по преимуществу мирный, но неравномерный и затянутый с оттенком постоянности характер колонизации. Исследователями определены ее причины, направления, формы и последствия. Пространство воспринималось как ценный ресурс, а его масштаб – как достижение совместных усилий государства и общества. Громадность государственной территории способствовала установлению сильной централизованной власти. Сделан вывод о том, что теория колонизации расширила и обогатила историографию историко-географическими и краеведческими исследованиями. Она стала одним из метанарративов исторической науки периода модерна. В ее рамках были поставлены и решены проблемные вопросы: факторы складывания государственной территории, особенности ее заселения, пространственная организация страны. Теория колонизации сохраняет высокий эвристический потенциал для постмодернистского изучения генезиса пространства российского государства, в том числе в русле истории фронтира.
Авторы попытались уточнить понятие фронтир, рассматривая его не только в цивилизационном смысле, но и в социоестественном контексте. Особое внимание было уделено движению фронтира как освоению «Дикого поля», – еще не распаханного земледельцами пространства. Цель статьи состояла в конкретном измерении степени освоенности зоны южнорусского пограничья в течение XVII – первой половины XIX вв. по показателям масштабов расселения, плотности населения, распашки земли. В результате исследования были получены конкретные показатели освоенности «Дикого поля»: широкое расселение на приречных и плакорных пространствах; плотность населения, равная старинным районам Центра России; распашка более половины территории бывшей зоны фронтира, в некоторых уездах даже шире, чем в старопахотных центральных уездах. Заключая, авторы обратили внимание на полезность в эвристическом плане обратить внимание на нелинейные эффекты в освоении «Дикого поля». В частности, речь шла о хозяйственном освоении бортных и иных ухожаев (угодий), сотни которых в конце XVI – XVII в. располагались в еще не подчиненной российским государством части «Дикого поля», а также о выявленных совместно с почвоведами следах земледельческого освоения территорий к югу от фронтира XVII в., развивавшегося здесь задолго до строительства крепостей и оборонительных валов.
В статье рассматривается отражение образов противников Франции в колониальной гонке, Великобритании и Германии, в нарративах основных идеологов французской колонизации – Жюля Ферри, занимавшего различные посты в правительстве Третьей республики, и профессора Коллеж де Франс Поля Леруа-Больё. Исследование охватывает период последней трети XIX века, на который приходился пик колониальной экспансии ведущих европейских держав.
Обращаясь к методологии, предложенной Э. Саидом, в данном исследовании будет предпринята попытка показать, как и с какой целью конструировался образ «Других» колонизаторов у главных идеологов французской колонизации.
В результате анализа нарративов будет показано, насколько в восприятии Франции отличались образы «Других» колонизаторов. Британские колонизаторы воспринимались французами как образец для подражания, эксперты в колониальном деле, заслуженно занимавшие пальму первенства, на которых Франции следовало бы ровняться. При этом образ германского колонизатора выходил совсем иным. Он представал как злобный, внезапно появившийся на колониальной арене соперник, который совершал ряд ошибок. Таким образом, основные конкуренты Франции были представлены совершенно по-разному: Великобритания как равный соперник, а Германия как мелочный, внезапно появившийся конкурент, от которого неизвестно что можно было ожидать.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- НПП ГФН
- Регион
- Россия, Астрахань
- Почтовый адрес
- 414056, Астраханская обл, г Астрахань, ул Савушкина, д 24, офис 88
- Юр. адрес
- 414056, Астраханская обл, г Астрахань, ул Савушкина, д 24, офис 88
- ФИО
- Якушенкова Олеся Сергеевна (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______