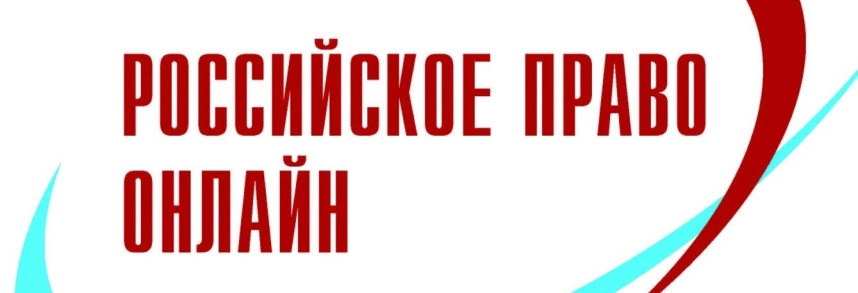Архив статей журнала
Статья посвящена проблеме юридического оформления власти римского императора и ее отражения в восприятии современников. Оказавшись на вершине могущества после окончательной победы над Антонием и Клеопатрой в 30 г. до н. э., Октавиан должен был выработать правовое обоснование своего исключительного положения в римском государстве. Общественное мнение, в первую очередь позиция старой римской аристократии (нобилитета), не позволило ему принять ни триумвирских, ни диктаторских, ни царских полномочий. Поэтому политик избрал путь постепенного сосредоточения в своих руках традиционных республиканских институтов, из которых в конченом счете и сложился самобытный институт императорской власти Древнего Рима. К 23 г. до н. э. главные юридические контуры института императора были очерчены: в его основе оказались власть народного трибуна (tribunicia potestas) и высший проконсульский империй (imperium proconsulare maius). В качестве источника власти Августа, предпочитавшего называть себя принцепсом («первым среди равных»), был обозначен гражданский коллектив, ярким выражением чего стало сохранение законодательной власти за народными собраниями (комициями). Однако исследование позволило предположить, что, несмотря на все юридические ухищрения принцепса, многие римляне всё же воспринимали его как полновластного царя, обладавшего законодательной и «моральной» властью, которая проистекала не от гражданского общества, но из божественной санкции. Вполне вероятно, что подобные коллективные представления послужили дополнительным, если не ключевым, фактором дальнейшего усиления «монархического» компонента в развитии системы принципата при последующих императорах.