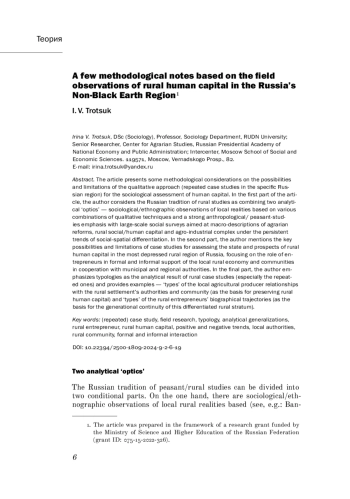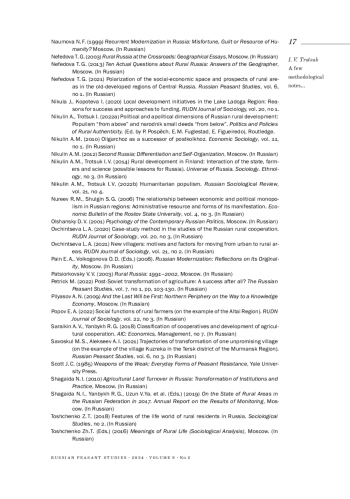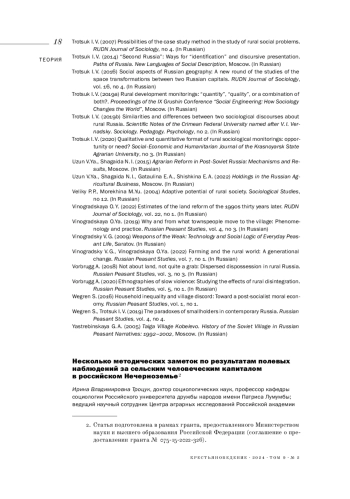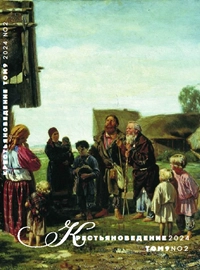The article presents some methodological considerations on the possibilities and limitations of the qualitative approach (repeated case studies in the specific Russian region) for the sociological assessment of human capital. In the first part of the article, the author considers the Russian tradition of rural studies as combining two analytical ‘optics’ - sociological/ethnographic observations of local realities based on various combinations of qualitative techniques and a strong anthropological/ peasant-studies emphasis with large-scale social surveys aimed at macro-descriptions of agrarian reforms, rural social/human capital and agro-industrial complex under the persistent trends of social-spatial differentiation. In the second part, the author mentions the key possibilities and limitations of case studies for assessing the state and prospects of rural human capital in the most depressed rural region of Russia, focusing on the role of entrepreneurs in formal and informal support of the local rural economy and communities in cooperation with municipal and regional authorities. In the final part, the author emphasizes typologies as the analytical result of rural case studies (especially the repeated ones) and provides examples - ‘types’ of the local agricultural producer relationships with the rural settlement’s authorities and community (as the basis for preserving rural human capital) and ‘types’ of the rural entrepreneurs’ biographical trajectories (as the basis for the generational continuity of this differentiated rural stratum).
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- История
The Russian tradition of peasant/rural studies can be divided into two conditional parts. On the one hand, there are sociological/ethnographic observations of local rural realities based (see, e. g.: Banfield, 2019; Vinogradsky, 2009; Yastrebinskaya, 2005; Vorbrugg, 2018; 2020). On the other hand, there are large-scale social surveys combining statistical and sociological data to provide macro-descriptions (see, e. g.: Kalugina, Fadeeva, 2009; Kuznetsova, 2009; Shagaida et al, 2019; 2023). Certainly, the latter is more widespread due to management tasks, including the critical systematization of the prerequisites and results of the post-Soviet agrarian reform for the further restructuring of Russian agriculture (Uzun, Shagaida, 2015: 12).
Список литературы
1. Allina-Pisano J. (2008) The Post-Soviet Potemkin Village. Politics and Property Rights in the Black Earth, Cambridge University Press. EDN: QSYTWP
2. Averkieva K. V. (2017) Symbiosis of agriculture and forestry in the early-developed periphery of the Non-Black Earth Region: The case of the Tarnogsky district of the Vologda Region.Russian Peasant Studies, vol. 2, no 4. (In Russian). EDN: YQNJVO
3. Banfield E. C. (2019) The Moral Basis of a Backward Society, Moscow. (In Russian).
4. Bozhkov O. B. (2019) Family entrepreneurship in the countryside: Some details of the portrait. RUDN Journal of Sociology, vol. 19, no 4. (In Russian). EDN: RCLJBB
5. Bozhkov O. B., Ignatova S. N., Trotsuk I. V., Nikulin A. M. (2022) Rural Entrepreneurs in the Northern Non-Black Earth Region: Sociological Essays Based on Field Observations, Moscow. (In Russian).
6. Bozhkov O. B., Nikulin A. M., Poleshchuk I. K. (2020) Agricultural cooperation in the Northern Non-Black-Earth Region: Formal and informal practices. RUDN Journal of Sociology, vol. 20, no 4. (In Russian). EDN: AKAXTC
7. Bozhkov O. B., Trotsuk I. V. (2018) Tendencies of the Russian rural areas development: The research task and first results of the comparative case-study. RUDN Journal of Sociology, vol. 18, no 4. (In Russian). EDN: YNAKFN
8. Bozhkov O. B., Trotsuk I. V. (2020) Post-Soviet farmers’ international in the agriculture of the North-West Region. Russian Peasant Studies, vol. 5, no 4. (In Russian). EDN: ATXFHM
9. Clement K. (2021) Patriotism from Below. “How Is It Possible for People to Live so Poorly in Such a Rich Country?”, Moscow. (In Russian).
10. Denisenko M. B., Denisenko G. M., Efremenko D. V. et al. (2016) Townspeople in the Village: Sociological Research in the Russian Hinterland: Deurbanization and Rural-Urban Communities, Moscow. (In Russian).
11. Efimov V. M. (2009) Evolutionary analysis of the Russian agrarian institutional system. Universe of Russia. Sociology. Ethnology, no 1. (In Russian).
12. Ely C. (2022) Russian Populism: A History, Bloomsbury Publishing.
13. Fadeeva O. P. (2003) Rural entrepreneurs in the local community. Journal of Economic Sociology, vol. 4, no 2. (In Russian).
14. Fadeeva O. P. (2015) Rural Communities and Economic Structures: From Survival to Development, Novosibirsk. (In Russian).
15. Fadeeva O. P. (2018) Sketches for the farm project: An Altai palette.Russian Peasant Studies, vol. 3, no 1. (In Russian). EDN: XMPJCH
16. Fadeeva O. P. (2019) Siberian village: From formal self-administration to the forced self-organization. ECO, no 4. (In Russian). EDN: ZBXYAX
17. Fadeeva O. P., Nefedkin V. I. (2020) Informal public-private partnership as an initiative from below: Rural cases.Russian Peasant Studies, vol. 5, no 3. (In Russian). EDN: VDBTPR
18. Fedotova V. G. (1997) Modernization of the “Other” Europe, Moscow. (In Russian).
19. From Family Homesteads to the Far Eastern Hectare (2021): Non-Trivial Issues of Public Administration and Municipal Government, Moscow. (In Russian).
20. Gordeeva I. A. (2003) “Forgotten People”: History of the Russian Communitarian Movement, Moscow. (In Russian).
21. Gusfield J. R. (1967) Tradition and modernity: Misplaced polarities in the study of social change. American Journal of Sociology, vol. 74, no 4.
22. Hann C. et al. (Eds.) (2003) The Postsocialist Agrarian Question. Property Relations and the Rural Condition, vol. 1, Münster.
23. Kalugina Z. I. (2001) Paradoxes of the Agrarian Reform in Russia. Sociological Analysis of Transformation Processes, Novosibirsk. (In Russian).
24. Kalugina Z. I., Fadeeva O. P. (2009) Russian Village in the Labyrinth of Reforms: Sociological Sketches, Novosibirsk. (In Russian).
25. Kolesnikov N., Tolstoguzov O. (2016) Structural changes in the economy of the Russian Northwest: A spatial dimension. Baltic Region, no 2. (In Russian). EDN: WHXLHJ
26. Krasilshchikov V. V. (1993) Modernization and Russia on the threshold of the 21st century. Issues of Philosophy, no 7. (In Russian).
27. Kuznetsova T. E. (2009). Multi-Structure of the Russian Economy: Historical Roots, State and Prospects, Moscow. (In Russian).
28. Lester D. (1998) Feudalism’s revenge: The inverse dialectics of time in Russia. Contemporary Politics, vol. 4, no 2.
29. Lindner P., Moser E. (2011) (De)centralization of rural Russia: Local self-government and the “vertical of power”. Peasant Studies: Theory. History. The Present Time, vol. 6, Moscow. (In Russian).
30. Maksimov A. F. (2018) Quantitative analysis and assessment of the number of agricultural consumer cooperatives. Applied Economic Research, no 6. (In Russian). EDN: YZQPVJ
31. Naumova N. F. (1999) Recurrent Modernization in Russia: Misfortune, Guilt or Resource of Humanity? Moscow. (In Russian).
32. Nefedova T. G. (2003) Rural Russia at the Crossroads: Geographical Essays, Moscow. (In Russian). EDN: SUQARN
33. Nefedova T. G. (2013) Ten Actual Questions about Rural Russia: Answers of the Geographer, Moscow. (In Russian).
34. Nefedova T. G. (2021) Polarization of the social-economic space and prospects of rural areas in the old-developed regions of Central Russia. Russian Peasant Studies, vol. 6, no 1. (In Russian). EDN: DNGPIA
35. Nikula J., Kopoteva I. (2020) Local development initiatives in the Lake Ladoga Region: Reasons for success and approaches to funding. RUDN Journal of Sociology, vol. 20, no 1. EDN: YJKGYL
36. Nikulin A., Trotsuk I. (2022a) Political and apolitical dimensions of Russian rural development: Populism “from above” and narodnik small deeds “from below”. Politics and Policies of Rural Authenticity. (Ed. by P. Pospěch, E. M. Fuglestad, E. Figueiredo), Routledge.
37. Nikulin A. M. (2010) Oligarchoz as a successor of postkolkhoz. Economic Sociology, vol. 11, no 1. (In Russian). EDN: OYNCAL
38. Nikulin A. M. (2012) Second Russia: Differentiation and Self-Organization, Moscow. (In Russian).
39. Nikulin A. M., Trotsuk I. V. (2014) Rural development in Finland: Interaction of the state, farmers and science (possible lessons for Russia). Universe of Russia. Sociology. Ethnology, no 3. (In Russian).
40. Nikulin A. M., Trotsuk I. V. (2022b) Humanitarian populism.Russian Sociological Review, vol. 21, no 4.
41. Nureev R. M., Shulgin S. G. (2006) The relationship between economic and political monopolism in Russian regions: Administrative resource and forms of its manifestation. Economic Bulletin of the Rostov State University, vol. 4, no 3. (In Russian).
42. Olshansky D. V. (2001) Psychology of the Contemporary Russian Politics, Moscow. (In Russian).
43. Ovchintseva L. A. (2020) Case-study method in the studies of the Russian rural cooperation. RUDN Journal of Sociology, vol. 20, no 3. (In Russian). EDN: ZSZVMK
44. Ovchintseva L. A. (2021) New villagers: motives and factors for moving from urban to rural areas. RUDN Journal of Sociology, vol. 21, no 2. (In Russian). EDN: DPWQED
45. Pain E. A., Volkogonova O. D. (Eds.) (2008).Russian Modernization: Reflections on Its Originality, Moscow. (In Russian).
46. Patsiorkovsky V. V. (2003) Rural Russia: 1991-2002, Moscow. (In Russian).
47. Petrick M. (2022) Post-Soviet transformation of agriculture: A success after all? The Russian Peasant Studies, vol. 7, no 1, pp. 103-130. (In Russian). EDN: ZQZFWW
48. Pilyasov A. N. (2009) And the Last Will be First: Northern Periphery on the Way to a Knowledge Economy, Moscow. (In Russian).
49. Popov E. A. (2022) Social functions of rural farmers (on the example of the Altai Region).RUDN Journal of Sociology, vol. 22, no 3. (In Russian). EDN: ISLNPK
50. Saraikin A. V., Yanbykh R. G. (2018) Classification of cooperatives and development of agricultural cooperation. AIC: Economics, Management, no 7. (In Russian). EDN: XUVVED
51. Savoskul M. S., Alekseev A. I. (2021) Trajectories of transformation of one unpromising village (on the example of the village Kuzreka in the Tersk district of the Murmansk Region).Russian Peasant Studies, vol. 6, no 3. (In Russian). EDN: PHTHOE
52. Scott J. C. (1985) Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press.
53. Shagaida N. I. (2010) Agricultural Land Turnover in Russia: Transformation of Institutions and Practice, Moscow. (In Russian).
54. Shagaida N. I., Yanbykh R. G., Uzun V.Ya. et al. (Eds.) (2019) On the State of Rural Areas in the Russian Federation in 2017. Annual Report on the Results of Monitoring, Moscow. (In Russian).
55. Toshchenko Z. T. (2018) Features of the life world of rural residents in Russia. Sociological Studies, no 2. (In Russian). EDN: YSVUEK
56. Toshchenko Zh.T. (Eds.) (2016) Meanings of Rural Life (Sociological Analysis), Moscow. (In Russian). EDN: VMKTCT
57. Trotsuk I. V. (2007) Possibilities of the case study method in the study of rural social problems. RUDN Journal of Sociology, no 4. (In Russian).
58. Trotsuk I. V. (2014) “Second Russia”: Ways for “identification” and discursive presentation. Paths of Russia. New Languages of Social Description, Moscow. (In Russian).
59. Trotsuk I. V. (2016) Social aspects of Russian geography: A new round of the studies of the space transformations between two Russian capitals. RUDN Journal of Sociology, vol. 16, no 4. (In Russian). EDN: XRGGLL
60. Trotsuk I. V. (2019a) Rural development monitorings: “quantity”, “quality”, or a combination of both?. Proceedings of the IX Grushin Conference “Social Engineering: How Sociology Changes the World”, Moscow. (In Russian).
61. Trotsuk I. V. (2019b) Similarities and differences between two sociological discourses about rural Russia. Scientific Notes of the Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky. Sociology. Pedagogy. Psychology, no 2. (In Russian).
62. Trotsuk I. V. (2020) Qualitative and quantitative format of rural sociological monitorings: opportunity or need? Social-Economic and Humanitarian Journal of the Krasnoyarsk State Agrarian University, no 3. (In Russian).
63. Uzun V.Ya., Shagaida N. I. (2015) Agrarian Reform in Post-Soviet Russia: Mechanisms and Results, Moscow. (In Russian).
64. Uzun V.Ya., Shagaida N. I., Gataulina E. A., Shishkina E. A. (2022) Holdings in the Russian Agricultural Business, Moscow. (In Russian). EDN: LRJRSF
65. Veliky P. P., Morekhina M.Yu. (2004) Adaptive potential of rural society. Sociological Studies, no 12. (In Russian). EDN: OWWCOF
66. Vinogradskaya O. Y. (2022) Estimates of the land reform of the 1990s thirty years later. RUDN Journal of Sociology, vol. 22, no 1. (In Russian). EDN: ZVHXIW
67. Vinogradskaya O.Ya. (2019) Why and from what townspeople move to the village: Phenomenology and practice. Russian Peasant Studies, vol. 4, no 3. (In Russian). EDN: LHQOPE
68. Vinogradsky V. G. (2009) Weapons of the Weak: Technology and Social Logic of Everyday Peasant Life, Saratov. (In Russian).
69. Vinogradsky V. G., Vinogradskaya O.Ya. (2022) Farming and the rural world: A generational change. Russian Peasant Studies, vol. 7, no 1. (In Russian). EDN: MVKCZK
70. Vorbrugg A. (2018) Not about land, not quite a grab: Dispersed dispossession in rural Russia. Russian Peasant Studies, vol. 3, no 3. (In Russian). EDN: YMMJZB
71. Vorbrugg A. (2020) Ethnographies of slow violence: Studying the effects of rural disintegration. Russian Peasant Studies, vol. 5, no 1. (In Russian). EDN: DMESLJ
72. Wegren S. (2016) Нousehold inequality and village discord: Toward a post-socialist moral economy. Russian Peasant Studies, vol. 1, no 1. EDN: ZBFBCF
73. Wegren S., Trotsuk I. V. (2019) The paradoxes of smallholders in contemporary Russia. Russian Peasant Studies, vol. 4, no 4. EDN: WZUMHT
74. Yastrebinskaya G. A. (2005) Taiga Village Kobelevo. History of the Soviet Village in Russian Peasant Narratives: 1992-2002, Moscow. (In Russian).
Выпуск
Другие статьи выпуска
В рамках научно-практической конференции, которую уже почти четверть века проводит Международный банковский институт им. Анатолия Собчака (Смирновские чтения), 22 марта 2024 года состоялся круглый стол «Туризм на сельских территориях: история, социология, экономика и финансы». Тема сельского туризма не случайно была выбрана в качестве отдельной тематики международного научного форума, поскольку этот вид туризма формируется как отдельная отрасль в общем потоке туриндустрии во все большем числе стран и очевидно нуждается в осмыслении и анализе проблем развития.
«Окраины воображаемые и реальные» — так называлась международная конференция, состоявшаяся в Красноярске 29‒30 ноября 2023 года. Она проходила в рамках ежегодных чтений, посвященных памяти заслуженного деятеля науки В. В. Гришаева, организованных кафедрой истории и политологии Красноярского государственного аграрного университета при поддержке Института истории СО РАН, Сибирского федерального университета, Государственного архива Красноярского края, Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и Красноярского краевого краеведческого музея
В интервью Е. К. Михеева, доктора экономики и менеджмента, генерального директора агрохолдинга «Нива-Михеев и Компания», заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, почетного гражданина Нижегородской области и Бутурлинского района, записанном социологами А. М. Никулиным и О. П. Фадеевой в августе 2023 года, раскрывается жизненный путь выходца из крестьянской колхозной семьи в мир современной аграрной науки, политики и бизнеса. Особое внимание уделяется обсуждению хозяйственной философии агроменеджера Михеева, логике принятия им решений на этапах колхозной жизни СССР, постсоветских времен становления рыночной экономики 1990-х годов, характеристике положения дел в его хозяйстве, аграрной экономике и сельском развитии Нижегородской области и всей сельской России. В центре интервью находятся вопросы рационального выбора принимаемых и реализуемых экономических решений в специфических условиях трансформации национальной и местной институциональной среды.
Сегодня одна из ключевых тем российского добровольческого движения - создание развивающей среды на малых сельских территориях. В статье охарактеризовано современное состояние отечественного добровольчества в контексте формирования привлекательности сельских территорий и развития местного сообщества, в том числе акцент сделан на деятельности всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры». В ходе данного исследования определены функционал и направления приложения добровольческих усилий проактивных граждан. Определена роль практик безвозмездной деятельности в повышении туристической привлекательности региона и развитии гостеприимства местного сообщества. Результаты исследования показали, что в настоящее время сфера туризма рассматривается как одна из приоритетных тем социальной повестки волонтерского движения и аккумуляции добровольческого труда. На примере ряда общественно значимых проектов, реализуемых в российских деревнях и селах, продемонстрированы результаты интеграции волонтерской деятельности в сферу сельского туризма в нашей стране, а также обоснован позитивный эффект для развития местных сообществ на их территориях. Волонтерская деятельность отражает степень общественного участия в решении значимых задач, стоящих перед сельскими территориями. Отдельное внимание уделяется образовательно-просветительским, методическим, мотивационным мерам поддержки и популяризации профильного направления в российском добровольческом движении в области продвижения объектов и маршрутов сельского туризма.
На основе данных репрезентативного социологического опроса, реализованного ИНСАП РАНХиГС в 2023 году, рассмотрены показатели субъективного благополучия и жизненные практики сельского населения России. Актуальность предлагаемого анализа обусловлена как масштабами территориально-поселенческой дифференциации условий жизнедеятельности населения страны, так и особенностями настоящего социально-экономического контекста, формирующими риски снижения благополучия. В фокусе рассмотрения находятся различные аспекты удовлетворенности жизненными условиями и представления о динамике их изменений, практики потребительского и кредитно-сберегательного поведения, а также особенности социальных взаимодействий сельского населения. Результаты исследования иллюстрируют в целом достаточно благополучную ситуацию в отношении удовлетворенности сельских жителей своей жизнью, а в качестве проблемной зоны явным образом выделяется восприятие возможностей получения квалифицированной медицинской помощи. Эмоциональный фон жизни характеризуется тем, что около двух третей селян видят возможности самореализации, при этом регулярное ощущение тревоги и подавленности характеризует более половины опрошенных, однако в сильной степени - лишь каждого десятого. Важной особенностью потребительского поведения является массовая экономия, и около половины сельских жителей вынужденно базируют повседневные покупки на единственном основании - минимальной цене. При этом более половины сельских жителей используют интернет при осуществлении потребительских практик, в том числе каждый пятый - активно. Значительная часть населения поддерживает приемлемый уровень жизни в том числе за счет использования кредитно-сберегательных ресурсов, при этом выделяется значительная группа финансового риска. Субъектными группами, на представителей которых возлагаются наиболее массовые ожидания поддержки, являются представители «близкого круга», а ожидания от институциональных образований - как государственных, так и общественных - кардинально сужены.
В статье анализируется миграция между сельской местностью и городами в России, при этом особое внимание уделяется современному периоду развития процесса. Миграционная убыль сельского населения несколько сократилась. Однако отток населения из сельской местности в значительной степени сглаживается за счет разнонаправленных процессов в пригородах и периферийных селах. Как показывают данные Росстата, сельская глубинка продолжает испытывать сильную миграционную убыль, в то время как пригородное село интенсивно прирастает за счет миграции. На основе микроданных социологического обследования «Человек, семья, общество», проведенного ИНСАП РАНХиГС в 2020 году, выполнен эконометрический анализ связи сельско-городской миграции с положением людей на рынке труда и их доходами. Он показал, что индивидуальные решения о переезде из сельской местности в город являются рациональными и экономически обоснованными. Миграция из села в город улучшает положение людей на рынке труда, дает выигрыш в заработной плате, ведет к росту подушевых доходов. Мотивы миграции из села в город, социально-экономические предпосылки этого процесса подтверждены результатами серии глубинных интервью, проведенных летом 2023 года.
In November 2023, the First Deputy Minister of Agriculture Oksana Lut estimated the shortage of workers in agriculture at 200,0001, obviously implying agricultural organizations. According to Lut, one of the reasons for such a shortage is low salaries: the limited effective demand for products does not allow agricultural organizations to increase the selling price of produce, which limits the wages of agricultural workers. However, the number of people employed in agriculture declines almost everywhere - this is a common situation in many countries. On the one hand, this decline is determined by an increase in labor productivity, i. e., a reduction in the number of workers is the desired result; on the other hand, many agricultural enterprises suffer from the lack of needed workers. Therefore, it is necessary to understand why there is a shortage of agricultural workers in Russia, focusing on the details of this situation. Based on the Federal State Statistics Service’s data, the author considers this situation, in particular the number of employed in agriculture, main reasons for such a labor shortage in agriculture and national economy in general, possibilities and limitations of the reliance/ dependence on labor migrants (especially from the post-Soviet countries) and on unemployed in the Russian labor market, regional differences in the available workforce, finally providing some recommendations to change the current situation.
In the history of Soviet kolkhoz (collective-farm) research, the ‘advanced kolkhoz (millionaire) phenomenon’ remains almost unexplored, although it was a notable social-economic phenomenon. Members of the Korean advanced kolkhozes in Central Asia, which operated from the late 1930s to the 1980s, at first adapted to the kolkhoz system through hard work, but later became very active in creating social-cultural institutions within the kolkhoz system for common benefit (not only ethnic Koreans but also natives). Regionally, the overwhelming majority of Korean advanced kolkhozes, including the legendary ‘Polar Star’ and ‘Politotdel’, were active in Uzbekistan, followed by Kazakhstan. Perhaps, Korean advanced kolkhozes in Central Asia reached the peak of the Soviet-style socialist agricultural development in the 1960s - 1970s. These wellto-do Korean kolkhozes in Central Asia developed a strong social infrastructure in their community as a basis for the contemporary living culture. Local common assets were formed from their own abundant undivided funds, consumption and cultural funds. However, what is more important is that Korean kolkhozes-millionaires not only built an excellent material and technical foundation in the village based on their high economic performance, but also created harmonious multiethnic communities while enjoying various social benefits similar to city life.
В статье рассматриваются мероприятия курса «лицом к деревне», проводившиеся коммунистической партией в 1924-1926 годах, на примере Вятской губернии. Работа основывается на архивном материале Центрального государственного архива Кировской области. Рассмотрена деятельность комиссии по работе в деревне при Вятском губкоме партии; практические меры губкома по созданию беспартийного актива, привлечению крестьян в партию, укреплению низового советского звена. Обследование жизни и быта крестьян одной из волостей губернии, в частности хозяйств крестьян-коммунистов, позволяет заключить, что многие члены сельских и волостных партийных организаций мало чем отличались от так называемой «зажиточной верхушки деревни», были тесно связаны с ней. У молодых активных крестьян возникала хорошая перспектива, вступив в правящую партию, улучшить свой социальный статус, сделать карьеру. Практические мероприятия губкома были направлены на то, чтобы стимулировать вступление в партию бедняков и батраков, крестьян, прошедших службу в Красной армии, комсомольцев, активисток делегатских женских собраний, продвигая их на различные оплачиваемые должности в советском и партийном аппарате, кооперации. Автор пришел к выводу, что мероприятия курса позволили партийной элите начать организацию деревенской бедноты и батрачества, по сути, сконструировав «сельский пролетариат», расколоть деревню, приступить к «созданию» «класса» кулаков, превратив его в своего главного врага в деревне.
С. А. Есенин - свидетель и участник Первой мировой войны - откликнулся на нее целым рядом произведений, написанных в течение 1914-1915 годов. Будучи «певцом деревни», «крестьянским Лелем», поэт искренне переживал за родных и близких ему крестьян, отправившихся на фронт. Большая часть произведений Есенина, являющихся откликами на события Первой мировой войны, отражает жизнь деревни и изменение привычного крестьянского уклада. Особое значение для поэта приобретает тема несчастной судьбы женщины-крестьянки. Ей посвящены стихотворения «Узоры» и «Молитва матери». Есенин показывает горе невесты, которая вышивает согласно крестьянской традиции узор, изобилующий траурными символами. С болью повествует об одинокой матери, живущей на краю деревни и поминающей сына-кормильца. В других произведениях, навеянных событиями идущей войны, также присутствуют женские образы. В маленькой поэме «Русь» Есенин описывает ополчение, проводы мужчин, ожидание и получение вестей с фронта, веру в победу как моменты частной жизни крестьянок, неотделимые от реалий сельской жизни. Неоднократно обращаясь к описанию проводов мужчин из сел и деревень, поэт не всегда подчеркивает плач женщин, предчувствующих беду, он также представляет гуляние рекрутов с «девчоночками лукавыми» в праздничном ключе, обращаясь к личному опыту («По селу тропинкой кривенькой…»). Тем не менее главным результатом войны для Есенина становится смерть воинов, поэтому с образами крестьянок периода Первой мировой войны преимущественно связаны мотивы слез, страданий и поминовения.
Статья посвящена крестьянским волнениям, охватившим несколько сел Подольской губернии весной 1914 года. Особенность сложившейся ситуации заключалась в том, что «смутьянами» оказались крестьяне-монархисты, находившиеся под влиянием черносотенного Почаевского Союза русского народа, во главе которого стоял архимандрит Виталий (Максименко). То обстоятельство, что крестьянская забастовка, выступления против земства и другие «революционные» проявления были результатом агитации правых, а не левых сил, вызвало особое внимание местных и центральных властей к данным эксцессам. На документах российских и украинских архивов, а также материалах дореволюционной периодической печати в статье подробно реконструируются крестьянские волнения в Подолии, их причины и последствия. Показана реакция на эти эксцессы спецслужб, губернской и правительственной власти, их отношение к пробуждению крестьянской политической активности. Доказывается, что данный сюжет, несмотря на частный характер, является яркой иллюстрацией к истории непростых взаимоотношений властей с черносотенцами, а также позволяет раскрыть специфику взглядов и настроений крестьян Правобережной Украины, массово записывавшихся в начале XX века в Союз русского народа. Рассмотренный в статье эпизод из истории крестьянского движения в Подольской губернии также во многом позволяет понять, почему в годы Революции 1917 года и последовавшей за ней Гражданской войны бывшие крестьяне-черносотенцы стали массово примыкать к леворадикальным политическим движениям и вступать в украинские повстанческие отряды.
В статье оценивается эффективность реализации крестьянами прав на разрешение или закрытие питейных заведений в период действия акцизной системы в России. Работа важна для понимания общинного правосознания, отношения крестьян к торговле и потреблению спиртных напитков, факторов поведения крестьян на общинных сходках 1860-1880-х годов, а также причин отказа правительства от свободного оборота алкоголя в 1890-е годы. Сельская крестьянская община рассматривалась правительством как оплот социальной стабильности, трезвости и порядка, поэтому ей были делегированы права разрешать или запрещать продажу алкоголя в селениях. Практика показала, что нравственные мотивы не стали ведущими в позиции общины по отношению к винной торговле. Большая часть крестьянских приговоров не имела нравственных основ, разрешение на открытие кабака сопровождалось взяткой от виноторговца. Несмотря на законодательные запреты, сельский сход принимал магарыч в виде спиртного, денег или в комбинации. Количество точек питейной торговли в акцизный период оставалось высоким, имела место тенденция к монополизации розничной торговли, пьянство являлось серьезной социальной проблемой. Автор приходит к выводу, что попытки правительства сделать крестьян блюстителями государственного интереса в отношении питейной торговли оказались неудачными. Легкость, с которой покупались голоса крестьян, всесилие сельского начальства, зависимость крестьян от виноторговца заставили правительство подключить к общественному контролю над оборотом алкоголя присутствия по питейным делам - губернские и уездные. Но и в этом случае результат разошелся с ожиданиями. Свободный оборот алкоголя был отменен, в России установилась государственная винная монополия.
В статье изучается история финансовых взаимоотношений А. С. Пушкина и его родственников по поводу родового имения Михайловское. Этот сюжет практически не привлекал внимания пушкинистов, историков и экономистов, однако он имеет важное значение для понимания экономической жизни как самого Пушкина, так и российского дворянства в середине - второй половине XIX века. Село Михайловское принадлежало матери Пушкина, Надежде Осиповне. После ее смерти в 1836 году по закону отец Пушкина, Сергей Львович, получил одну седьмую часть имения, сестра Ольга - одну четырнадцатую, остальное досталось поровну братьям - Александру и Льву. Отец отказался от своей доли в пользу дочери. Физический раздел имения с 80 крепостными мужского пола не имел экономического смысла, целесообразным было финансовое урегулирование. Пушкин предполагал выкупить Михайловское, исходя из цены в 40 тыс. руб. (500 руб. за душу). Н. И. Павлищев, муж Ольги, доказывал, что имение стоит вдвое дороже, он хотел получить за долю Ольги максимальную сумму. Затем он снижал цену, но у Пушкина не было денег, а во второй половине 1836 года уже разворачивались события, которые привели поэта к трагической дуэли. В феврале 1837 года вдова Пушкина обратилась к Николаю I с просьбой выкупить Михайловское в пользу детей. Была назначена опека над детьми Пушкина, и после длительных переговоров Михайловское в 1841 году было выкуплено. Наследники - Лев, Ольга и Н. Н. Пушкина получили оплату долей, исходя из цены имения в 34 тыс. руб. Собственниками, имевшими равные доли, стали дети Пушкина - Мария, Александр, Григорий и Наталья. В 1856 году сыновья выкупили у дочерей их доли в Михайловском. В 1870 году единственным собственником Михайловского стал Григорий. В 1899 году Михайловское было выкуплено у него Казначейством за 144 600 руб. Но основную долю в этой сумме составляла цена участка леса, а не цена крепостных душ.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- РАНХиГС
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 119571, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 82 стр. 1
- Юр. адрес
- 119571, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 82 стр. 1
- ФИО
- Комиссаров Алексей Геннадиевич (РЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (499) 9569832