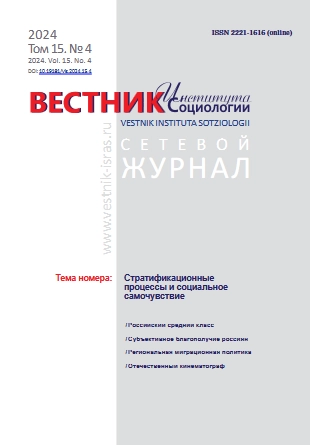Социальный протест является причиной конфликтов в обществе. Но он же сигнализирует о нерешенных проблемах и заставляет власти реагировать на требования общества. В истории России протест всегда играл немалую роль, причем его особенностью был крайний радикализм.
Исследование опирается на опросы молодежи, проходившие в 2020 г. и в 2024 г. на Дальнем Востоке. В выборке выявлены два типа протестантов: сторонники мирного и радикального протеста. Они являются носителями двух разных типов протестного сознания, включая ценности, представления, мотивы протеста.
Автор приходит к выводу о наличии у молодежи Дальнего Востока двух типов протестного сознания и протестной культуры: мирного типа протестного сознания и на его основе мирного гражданского протеста («культура петиций»); и радикального протестного сознания и основанного на нем, радикального протеста («культура бунта»). «Культура петиций» связана с активной гражданской позицией, интересом к политике, с легальными формами политического и общественного участия. Ее носителям присущи такие ценности как справедливость и равенство, свобода и творчество, права человека и стремление к обновлению. Культура радикального протеста определяется подданническим типом политического сознания, сильными негативными эмоциями, сильной этничностью и верой в угрозу своей национальности. Можно отметить, что носители радикального протестного сознания амбивалентны в отношении форм протеста: готовы и к мирным формам, и к радикальным. Мы интерпретируем это так: если субъект готов к более радикальным формам протеста, то приемлет и менее радикальные. А вот носители мполитирного протестного сознания готовы только к участию в мирном протесте (на то они и «мирные»). Радикальные формы их пугают и неприемлемы для них.
По результатам нашего исследования более распространенной в выборке является «культура петиций», что означаете, что диалог власти и молодежи возможен. Также в работе изучены поколенческие особенности протестного сознания поколений «Y» (или миллениалов) и «Z» (или центениалов).
Идентификаторы и классификаторы
Активнее всего протестное начало в России проявлялось в периоды ослабления государственности, повышенной геополитической конфликтности, что исторически подтверждается Февральской революцией и Октябрьским вооруженным восстанием 1917 года.
Список литературы
1. Артюхина В. А. Осмысление социального протеста в современной социологии: анализ основных подходов // Социологические исследования. 2017. № 11. С. 30-34. ;. DOI: 10.7868/S0132162517110046 EDN: ZRQQNH Akhremenko A. S., Stukal D. K., Petrov A. P. Network or Text? Factors in the Spread of Protest in Social Media: Theory and Data Analysis. POLIS. Politicheskie issledovaniya, 2020: 2: 73-91 (in Russ). DOI: 10.17976/jpps/2020.02.06 EDN: APZWMB
2. Ахременко А. С., Стукал Д. К., Петров А. П. Сеть или текст? Факторы распространения протеста в социальных медиа: теория и анализ данных // ПОЛИС. Политические исследования. 2020. Т. 29. № 2. С. 73-91. ;. DOI: 10.17976/jpps/2020.02.06 EDN: APZWMB Artyuhina V. A. Understanding social protest in modern sociology: analysis of the main approaches. Sotsiologicheskie issledovaniya, 2017: 11: 30-34 (in Russ.). ;. DOI: 10.7868/S0132162517110046 EDN: ZRQQNH
3. Баранова Г. В. Методика анализа протестной активности населения России // Социологические исследования. 2012. № 10. С. 143-152. EDN: PFLLRF Baranova G. V. Metodika analiza protestnoj aktivnosti naseleniya Rossii [The method of analysis of protest activity of the population of Russia]. Sotsiologicheskie issledovaniya, 2012: 10: 143-152 (in Russ.). EDN: PFLLRF
4. Волков Д. А. Протестные митинги в России конца 2011 - начала 2012 гг.: запрос на модернизацию политических институтов // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2012. № 2(112). С. 73-86. Volkov D. А. Protestnye mitingi v Rossii koncza 2011 - nachala 2012 gg.: zapros na modernizaciyu politicheskix institutov [Protest rallies in Russia in late 2011 and early 2012: the request for the modernization of political institutions]. Vestnik obshhestvennogo mnenija, 2012: 2 (112): 73-86 (in Russ.).
5. Габа О. И. Молодежь как субъект протестных настроений // Знание, понимание, умение. 2015. № 1. С. 144-151. EDN: ULLCGT
6. Керимов А. А., Эбзеев А. А. Факторы и тенденции протестной активности молодежи в современной России // Дискурс-Пи. 2022. Т. 19. № 1. С. 104-123. ;. DOI: 10.17506/18179568_2022_19_1_104 EDN: GSFTBH Kerimov A. A., Ebzeev A. A. Factors and Trends of Youth Protest Activity in Modern Russia. Discurs-Pi, 2022: 19(1): 104-123 (in Russ.). ;. DOI: 10.17506/18179568_2022_19_1_104 EDN: GSFTBH
7. Леньков Р. В., Колосова О. А., Ковалева С. В. Социально-психологическая диагностика и прогнозирование протестного поведения молодежи в цифровой среде // Цифровая социология. 2021. Т. 4. № 1. С. 31-41. ;. DOI: 10.26425/2658-347X-2021-4-1-31-41 EDN: YQQGVH Lenkov R. V., Kolosova O. A., Kovalyova S. V. Socio-psychological diagnostics and forecasting protest behavior of youth in the digital environment. Cifrovaya sociologiya, 2021: 4(1): 31-41 (in Russ.). ;. DOI: 10.26425/2658-347X-2021-4-1-31-41 EDN: YQQGVH
8. Марин Е. Б. Структура протестного мышления и представление о социальном протесте молодежи поколений “Y” и “Z” Дальнего Востока и Москвы // Вестник Института социологии. 2022. Т. 13. № 1. C. 86-107. ;. DOI: 10.19181/vis.2022.13.1.776 EDN: WEZDKL Marin Е. B. The structure of protest thinking and the idea of social protest among young people of generations “Y” and “Z” in the Far East and Moscow. Vestnik instituta sotziologii, 2022: 13(1): 86-107 (in Russ.). ;. DOI: 10.19181/vis.2022.13.1.776 EDN: WEZDKL
9. Марин Е. Б. Молодежные протестные настроения в Приморском крае (на примере студенчества) // Вестник Института социологии. 2018. Т. 9. № 3. C. 63-82. ;. DOI: 10.19181/vis.2018.26.3.524 EDN: YWAGXB Marin E. B. Youth protest moods in Primorsky Region (on the example of students). Vestnik instituta sotziologii, 2018: 9(3): 63-82 (in Russ.). ;. DOI: 10.19181/vis.2018.26.3.524 EDN: YWAGXB
10. Парма Р. В., Давыдова М. А. Триггеры политической мобилизации массовых протестов в социальных медиа Российской Федерации и Республики Беларусь в 2020-2021 гг. // Власть. 2022. № 3. С. 97-105. ;. DOI: 10.31171/vlast.v30i3.9045 EDN: UJJWYG Parma R. V., Davydova M. A. Triggers of political mobilization of mass protests in social media of the Russian Federation and the Republic of Belarus in 2020-2021. Vlast’, 2022: 3: 97-105 (In Russ.). ;. DOI: 10.31171/vlast.v30i3.9045 EDN: UJJWYG
11. Радаев В. В. Миллениалы на фоне предшествующих поколений: эмпирический анализ // Социологические исследования. 2018. № 3. С. 15-33. ;. DOI: 10.7868/S0132162518030029 EDN: YVQXQU Radaev V. V. Millennials Compared to Previous Generations: An Empirical Analysis. Sotsiologicheskie issledovaniya, 2018: 3: 15-33 (in Russ.). ;. DOI: 10.7868/S0132162518030029 EDN: YVQXQU
12. Серкин В. П. О возможностях метода семантических универсалий Е. Ю. Артемьевой // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 2000. № 2. С. 74-79. Serkin V. P. O vozmozhnostyax metoda semanticheskix universalij E. Yu. Artemevoj [On the possibilities of the method of semantic universals by E. Y. Artemyeva]. Vestnik MGU. Ser. 14. Psihologiya, 2000: 2: 74-79 (in Russ.).
13. Ядов В. А., Климова С. Г. и др. Социальная база поддержки реформ и потенциал массового протеста // Россия в глобальных процессах: поиски перспективы / Отв. ред. М. К. Горшков. М.: ИС РАН, 2008. С. 85-101. EDN: TZCRHT Yаdov V. A., Klimova S. G. et al. Social’naya baza podderzhki reform i potencial massovogo protesta [Social base of support for reforms and the potential of mass protest]. In Rossiya v global’nyh processah: poiski perspektivy [Russia in global processes: searching for perspectives]. Ed. by M. K. Gorshkov. Moscow, IS RAN, 2008: 85-101 (in Russ.). EDN: TZCRHT
14. Almond G. A., Verba S. The Civic Cilture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. SAGE, 1989. 379 p.
15. Davis J. A formal interpretation of the theory of relative deprivation // Sociometry. 1959. Vol. 22. No. 4. P. 280-296.
16. van Stekelenburg J., Klandermans B. The social psychology of protest // Current Sociology. 2013. Vol. 61. No. 5-6. P. 886-905. DOI: 10.1177/0011392113479314
17. van Zomeren M., Postmes T., Spears R. Toward an integrative social identity model of collective action: A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives // Psychological Bulletin. 2008. No. 134. P. 504-535. DOI: 10.1037/0033-2909.134.4.504
18. Vitak J., Zube P. et al. It’s complicated: Facebook users’ political participation in the 2008 election // Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2011. No. 14(3). P. 107. DOI: 10.1089/cyber.2009.0226
19. Schwartz S. H. Are there universal aspects in the content and structure of values? // Journal of Social Issues. 1994. Vol. 50. P. 19-45.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Данная статья посвящена анализу доступности городской среды для различных групп маломобильных горожан. Город Москва рассматривается как сложное пространство, включающее в себя «старые», исторически сложившиеся и «новые», современные территории, которые при этом причем они не имеют четкой районированности и, в пределах московской кольцевой автодороги, расположены точечно либо рядом, а зачастую внутри «старых». Множество групп маломобильных москвичей сужено до инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата, пожилых горожан, матерей с детьми. Основой для такого абстрагирования стали институциональные определения маломобильных граждан, содержащиеся в законах РФ. Эмпирическое исследование состоит из трех взаимодополняющих частей. Проведены стресс-тесты для пожилых горожан, позволившие выявить основные трудности с доступностью городской среды и отношение к ним. Также проанализирована доступность «старого» московского пространства на примере станции метро «Аэропорт» для пожилых людей и матерей с детьми старше пяти лет. Выявлены проблемы в запланированной и декларируемой инклюзивности нового пространства на примере парка «Зарядье». Показано, что городская среда Москвы может рассматриваться как обладающая субъектностью (в соответствии с определением Б. Латура), поскольку детерминирует жизнедеятельность маломобильных горожан. Выявлена различная приоритетность инклюзивности среды для временно и постоянно маломобильных людей, а также для разных возрастных групп.
Анализ новых пространств показал, что при современном проектировании, учитывающем требования инклюзивности, не удалось избежать препятствий для маломобильных горожан. Авторы делают вывод о необходимости широкого исследования множества различных групп постоянно и временно мобильных горожан, их интересов, приоритетов, ценностных установок и перспектив согласования этих интересов при проектировании современной городской среды, в особенности в таком сложном пространстве как московское. Как полагают авторы, полученные результаты можно будет применять как в развитии московского градостроительства, так и для разработки градостроительных принципов общего характера.
Настоящая статья является продолжением опубликованного ранее исследования стратегий русскоязычной буддийской общины в отношении Интернета и новых медиа и посвящена анализу общественного вклада буддийских гражданских инициатив. Сложность данной темы заключается в ее новизне и крайне слабой изученности сквозь призму социологических методологий. Меж тем, трансформации российского общества в сферах политики, права, образования и религии настоятельно требуют от социологов как новых теоретических рефлексий о релевантности устоявшихся методологий исследований, так и новых прикладных исследований измененной реальности. Аналитической рамкой исследования стала комбинация концепций постсекулярного общества Юргена Хабермаса и «организационного субстрата» Джулии Бергер. Прикладная часть исследования включила в себя экспертные интервью по теме гражданских буддийских инициатив периода 1990-220-х гг. и case-study двух буддийских неправительственных организаций - «Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма» и «Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям». Проведенный анализ позволил выделить идеациональный и партикулярный компоненты организационного субстрата буддийских неправительственных организаций. Идеациональная составляющая организационного субстрата обоих фондов базируется на буддийской регламентации социального действия как нацеленного на обретение благой заслуги и принесения пользы живым существам, очищение сознания. Ключевые векторы гражданской активности российских буддистов-мирян определяются партикуляризмом буддийской модели распространения учения (запрет миссионерства, Учение как Дар проповеди), доктринальной регламентацией социальной деятельности мирян и религиозных профессионалов, партикулярной моделью воспроизводства традиционных ценностей через буддийское образование. Выявленный авторами организационный субстрат позволил авторам изучить основные направления гражданских инициатив российских буддистов. Таковыми, сообразно субстрату, стали создание медианиши традиционного буддизма в публичной сфере российского общества; медиация отношений между традиционным буддизмом и политико-правовой и научно-образовательной подсистемами российского общества. Анализ этапов институционализации буддийских неправительственных организаций показал, что первый этап включил формирование общественной инициативы снизу, второй этап охватил построение долгосрочного диалога с властью по проблеме воспроизводства буддийского образования, а нынешний, третий этап - консолидацию буддийской сангхи в социокультурном и политико-правовом контексте Российской Федерации.
В статье представлен анализ публикаций, посвященных кинематографу в ведущих социологических журналах, начиная с 1976 г. по настоящее время. Цель исследования заключается в выявлении социологической интерпретации трансформации отечественного кинематографа в ретроспективе, а также основных тенденций в развитии российской социологии кино. В ходе анализа научные публикации были систематизированы по годам и направлениям исследований, что позволило четче определить актуальные проблемы киноведения. Начиная с советского периода киноиндустрия рассматривалась социологами с точки зрения взаимодействия «кино-зритель», как средство пропаганды, репрезентации и решения практических задач. Исследования проводились в рамках анализа статистики кинопроката, а также мотивов и факторов выбора фильмов зрителями. Зафиксировано, что авторы фокусировались на количественных исследованиях, касающихся преимущественно тематики посещаемости кинотеатров, их репертуара и зрительского спроса. Часть работ опиралась на сравнительный анализ с зарубежными исследованиями, отмечая нехватку междисциплинарных исследований в отечественной социологии кино. Вместе с тем как в советский период, так и позднее практически не выявлено работ, посвященных региональному кинематографу, в том числе этническому, история которого начинается в первой половине XX в.
В настоящее время ученые отмечают, что несмотря на возрождение федерального кино, оно все еще не отвечает запросам общества, не становится тем видом искусства, которое формировало бы национальную культуру. Наблюдается нехватка теоретического и методологического анализа социологических исследований, особенно с применением качественных методов, значения кино для российского общества. Представляется актуальным дальнейшее изучение вопросов кино как искусства. Также следует искать ответы на вопросы, какие функции сейчас оно несет и/или должно нести, каковы перспективы социологических исследований в рамках развития регионального кино. Анализ исследований в области киноведения позволит выдвинуть новые проблемно-предметные поля социологии кино в контексте современных вызовов.
В данной статье рассматриваются вопросы развития в российских вузах института научного наставничества. Авторы исходят из того, что оно должно опираться на научные представления о содержании и особенностях профессиональных ролей научного руководителя и научного наставника. При всей схожести эти роли научно-педагогических работников соответствуют разным функциональным сферам их деятельности со своим набором задач, результатов, особенностей взаимодействия со студентами. Цель данной статьи - сопоставить профессиональные роли научного наставника и научного руководителя студентов бакалавриата и магистратуры для актуализации смысла наставнической деятельности в сфере вузовской научно-исследовательской работы. Предмет анализа - особенности профессиональной роли научного наставника студента. Их наличие обосновывает самостоятельный характер наставнической деятельности и «легитимизирует» ее в ролевом репертуаре научно-педагогических работников вузов. Эмпирической основой статьи являются материалы полуструктурированных интервью с научно-педагогическими сотрудниками российских вузов, проведенные в рамках всероссийского исследования (n = 30, 2024). Интерпретация эмпирических данных базируется на теоретических положениях социологической теории ролей, теории социальной идентичности, концепции профессиональной морали и этики. В исследовании не только обоснованы различия в функциональном содержании профессиональных ролей и повседневных практиках научного руководителя и научного наставника, но и выявлены парадоксы профессиональной идентификации научных наставников, морально-этическое измерение их деятельности. Показано, что особенности предписаний, ожиданий и исполнения научными руководителями и научными наставниками своих ролей проявляются в степени формальности их прав, обязанностей и ответственности, уровне индивидуализации и характере темпоральной организации взаимодействий со студентами. Практическая значимость полученных результатов связана с возможностью разработки вузовских программ поддержки научных наставников как ключевых акторов вовлечения студентов в академическую профессию и вузовскую науку. Ролевые различия научного наставника и научного руководителя позволяют в дальнейшем конкретизировать управленческие требования к разным видам профессиональной деятельности научно-педагогических работников, а также оптимизировать их ресурсную поддержку. Практическая значимость исследования для академических работников заключается в получении оснований для самооценки их готовности к профессиональной роли научного наставника и определении зон профессиональной ответственности, сопряженных с данной ролью.
В представленной статье рассматривается проблема новых цифровых угроз. В фокусе исследования основные тенденции развития киберпреступности в России и ее специфические страновые особенности. Проведенный авторами анализ статистических данных различных ведомств (МВД, Генпрокуратуры, Роскомнадзора) по состоянию и структуре преступности показал, что киберпреступность в России за последние годы значительно возросла, особенно в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. Выявлены и проанализированы наиболее распространенные виды киберпреступлений в российском обществе - различные виды мошенничеств и кражи, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Эмпирическую основу исследования составляют данные онлайн-опроса городского трудоспособного населения (18-60 лет), проведенного сотрудниками сектора социологии девиантного поведения ИС ФНИСЦ РАН по многоступенчатой квотной выборке (март-май 2024 г.). Было оценено отношение горожан к различным видам цифровой преступности. Установлено, что многие респонденты считают вероятность стать жертвой кибермошенничества высокой, особенно в отношении незаконного использования персональных данных и взлома электронной почты.
Выявлено, что количество респондентов, опасающихся стать жертвой киберпреступления, увеличивается с возрастом. В то же время в самых старших возрастных группах эти опасения снижаются. Уровень образования также является важным дифференцирующим фактором в отношении столкновения с киберугрозами - чем выше его уровень, тем чаще респонденты имеют опыт столкновения с киберпреступлениями.
Для выявления ключевых особенностей киберпреступности в России был проведен опрос экспертов. К экспертизе были привлечены специалисты различных направлений - от исследователей-девиантологов до практических работников, занимающихся информационной безопасностью и имеющих опыт работы с киберпреступностью. Их прогноз на ближайшие годы неутешителен - ожидается дальнейший рост киберпреступности, усложнение применяемых техник, включая использование искусственного интеллекта, в связи с чем необходима разработка специализированных защитных решений.
Показано, что основными факторами роста киберпреступности в России является ее двойственная природа, проявляющаяся в одновременной организационной сложности и структурированности, с одной стороны, и гибкости, и адаптивности, - с другой. Кроме того, киберпреступность обостряет важную социальную проблему - растущее цифровое неравенство. Таким образом, киберпреступность в России представляет серьезную угрозу, требующую комплексного подхода и скоординированных усилий на всех уровнях общества для ее эффективного пресечения.
В статье представлен анализ данных качественного исследования, проведенного авторами в момент «ситуации-испытания», то есть начавшейся СВО и последовавших антироссийских рестрикций, среди IT-специалистов и технопредпринимателей, перед которыми встал выбор: остаться в России или переехать вслед за работодателем (или со своим бизнесом) в другую страну. В качестве теоретического базиса исследования использовалась теория градов Л. Болтански и Л. Тевено, которая позволила выявить соответствующие реакции на возникшую «ситуацию-испытание», с аргументированной критикой и оправданием, с представлениями о справедливости, а также выделить основные мотивы, способствующие переезду или, напротив, приводящие к отказу от него. В статье предпринимается попытка выявить связь между реакцией на «ситуацию-испытание» и тем, какое в итоге действие (релокация или отказ от нее) совершалось респондентами. Авторами было собрано 52 исследовательских материала, из которых 42 - глубинные интервью с IT-специалистами релокантами (22) и оставшимися в России (20), еще 10 - собранные в публичном пространстве, в личной переписке интервью, высказывания, посты, выступления ведущих технопредпринимателей, живущих и работающих как в России, так и переехавших в связи с СВО за рубеж. В результате анализа собранных данных авторами сделаны следующие выводы: гомогенная по ряду признаков группа IT-специалистов кластеризуется по типу реакций на «ситуацию-испытание», в зависимости от чего формируется и соответствующий выбор: релокация или отказ от нее. В этом обнаруживается связь, более того, в зависимости от спектра реакции наблюдаются более однозначные, или напротив, размытые с точки зрения поведения группы выбор и действие.
Статья представляет собой обзор результатов проведенного автором поискового эмпирического исследования, целью которого являлась проверка связи субъективных факторов, таких как эмоциональный интеллект и черты «Большой пятерки» с отношением к сенситивным тематикам в социологических опросах (на примере проблемы домашнего насилия). Тема домашнего насилия была выбрана, поскольку она активно обсуждается в медиадискурсе, но, в то же время, еще остается достаточно табуированной для российского общества. Сенситивность вопросов определяется не только темой, но и личностным контекстом, поэтому для исследования в качестве субъективных факторов выбраны эмоциональный интеллект и черты характера. Для измерения эмоционального интеллекта использован тест Н. Шутте, как надежный, валидный и в то же самое время не слишком объемный для психологической методики инструмент, а для выявления черт «Большой пятерки» - методика М. С. Егоровой и О. В. Паршиковой. Часть вопросов о домашнем насилии взяты из опросов ВЦИОМ (2011, 2019 гг.) и ФОМ (2019 г.), добавлены также авторские вопросы, включающие «шкалу искренности», по которой респондент в конце анкеты мог оценить степень своей искренности при ответах на заданные вопросы. В качестве испытуемых выступили студенты в возрасте 18-24 лет (n = 125). Были проведены сравнение полученных результатов с результатами опросов по теме домашнего насилия ВЦИОМ и ФОМ по возрастной группе 18-24 года, а также корреляционный анализ, выявивший наличие слабой связи между показателями эмоционального интеллекта, экстраверсией и отношением к теме домашнего насилия. В результате получен весьма значимый вывод о том, что высокий уровень эмоционального интеллекта связан с искренностью респондентов при ответах на сенситивные темы. Статья будет интересна в первую очередь специалистам, интересующимся методологией социологических исследований и междисциплинарными исследованиями.
В представленной статье рассматривается региональная модель миграционной политики на примере Нижегородской области. Особенностью авторского подхода является понимание региональной миграционной политики как комплекса управленческих практик, в которые включены и органы власти, и общественные организации. Подобный подход позволяет рассматривать миграционную политику как многоаспектную и сложносоставную сферу взаимодействий разного рода субъектов, а также повысить эффективность реализуемых в ее рамках программ. Главными задачами в сфере миграционной политики региона являются адаптация и интеграция мигрантов, но нет четкого определения данных понятий и действий по их реализации. Основными организационно-управленческими структурами в регионе являются Управление по вопросам миграции МВД по Нижегородской области, межнациональные советы, действующие при губернаторе региона и администрации г. Нижнего Новгорода. Деятельность по включению иностранных граждан в региональное общество напрямую не входит в функционал профильных органов власти, но может компенсироваться деятельностью общественных объединений. Поэтому в управленческие практики следует включать и институты гражданского общества, как зарегистрированные объединения, так и неформальные диаспорные сообщества. Кроме того, они, в отличие от органов власти, имеют возможность оперативно реагировать на обращения иностранных граждан. Отмечено, что выделяемые группы институтов, участвующие в реализации миграционной политики, обладают специфическими ресурсами, что предопределяет их функционал и характер деятельности в управленческих практиках. Организационно-управленческие институты опираются на административный и правовой ресурсы. Ресурсом институтов гражданского общества выступают каналы связи в среде иностранных граждан, высокая погруженность и вовлеченность в проблемы трудовых мигрантов, проживающих в регионе. Данные обстоятельства требуют включения их в разработку и реализацию целевых программ и мероприятий адаптационной и интеграционной направленности. Автором делается вывод о целесообразности создания в регионе профильного ведомства, отвечающего за разработку и реализацию мероприятий в рамках региональной миграционной политики.
Российское общество сталкивается сегодня с необходимостью переосмысления реальности, в которой оно оказалось, в том числе в связи с воссоединением с новыми территориями на юге страны, трансформацией всей системы национальной и международной безопасности, конструированием новых смыслов и интерпретаций социальных и политических процессов. Изменения в сфере социально-политических, международных и экономических отношений происходят на фоне процессов формирования мобилизационного типа государственного развития, требующего разработки новых ценностных образцов и адаптационных стратегий поведения населения. В таких условиях историческая справедливость, определяя логику интерпретации происходящих в российском обществе событий и процессов, выступает «демаркационной» линией в массовом сознании и поведении населения страны. Определение специфики восприятия гражданами исторической справедливости может выступать основанием согласования общественных интересов и создания идеологической системы координат, необходимой обществу в условиях кризиса и ценностных противоречий.
Цель исследования - рассмотреть историческую справедливость как фактор гражданской интеграции российского постсоветского поликультурного общества в условиях социокультурных вызовов. Методологическая база исследования выстроена на основе теорий естественной и исторической справедливости. Также в рамках данного исследования были применены следующие подходы: конструктивистский и рискологический.
В рамках данной публикации, в качестве основополагающих блоков, рассмотрено: историческая справедливость как направление социальной политики государства; этнокультурное взаимодействие в поликультурном пространстве российского постсоветского общества; роль исторической справедливости в интеграции российского постсоветского поликультурного общества в условиях социокультурных вызовов.
В результате анализа представленных блоков автор приходит к выводу о необходимости реализации в современном российском обществе особой государственной политики, направленной на конструирование и усиление гражданской интеграции российского поликультурного общества на основе интегрирующих нарративов. В основе таких нарративов должна быть положена концепция преемственности отечественной истории, и они должны разворачиваться только на принципах культуры социально-политического и научного диалога.
Перспективы исследования связаны с дальнейшим исследованием существующих факторов гражданской интеграции российского общества, обращенных к культивированию ценностей гуманистического мировосприятия российского постсоветского поликультурного общества в условиях новых социокультурных вызовов.
Гендерная асимметрия в распределении внутри российской политики предполагает наличие «стеклянного потолка», который не позволяет женщинам в полной мере реализовывать свой потенциал. Данная статья посвящена оценке общественно-политической деятельности как социального капитала, который помогает женщинам кооптироваться в систему управления государством и преодолевать внутренние ограничения. В мировой практике общественные негосударственные некоммерческие организации стали рассматриваться как особый сегмент экономики - «третий сектор», он играет все более заметную роль в развитии гражданского общества и оказывает влияние на политическую сферу в России. Целью исследования стала оценка третьего сектора как канала рекрутации во власть. Методом ретроспективного биографического анализа восьмисот успешных действующих политиков и управленцев обоих полов был проведен анализ их инкорпорации в государственную систему, выявлены гендерные различия между политическими траекториями. Наиболее эффективными по структуре оказались всероссийские общественные организации, имеющие разветвленную сеть отделений по всей стране, которая позволяет им накапливать социальный и административный ресурсы и успешно инкорпорировать своих представителей в органы управления государством. Партийный лифт успешно функционирует для обоих полов. Анализ позволяет сделать вывод о том, что третий сектор является каналом рекрутации в политическую систему страны, вертикальная мобильность имеет ряд гендерных различий. Для женщин социальным капиталом, позволяющим совершить вертикальную мобильность, является партийная карьера, опыт работы в системе общественных палат, участие в движении Народный фронт «За Россию», а также в профессиональных и благотворительных НКО. Активность в общественном поле для них является эффективным способом построения политической траектории на любой уровень властной пирамиды. Бизнес-сообщество посредством некоммерческих объединений старается не только быть полезным государству, но и довольно успешно использует их для инкорпорации своих членов в различные ветви власти, однако этот лифт действует в основном для мужчин.
В статье на основе результатов авторского социологического исследования, проведенного методом личного интервью (n = 650), описаны установки относительно выбора трудовых, финансовых и здоровьесберегающих траекторий россиян в ходе подготовки к выходу на пенсию. Показано, что в условиях демографического старения в России наблюдается постепенный уход от понимания старения как взаимного отчуждения пожилого человека и общества, а пожилых - исключительно как объектов заботы, в направлении рассмотрения пожилых как активных участников общественной жизни, в отношении которых реализуется политика активного долголетия. Она предполагает систему мер содействия занятости пожилых, поддержания материального благополучия, улучшения здоровья и качества жизни, обучения на протяжении всей жизни. Однако индекс активного долголетия в России остается низким.
Обосновывается утверждение, что система мер в русле концепции политики активного долголетия имеет проактивный характер, то есть нацелена на будущие, нежели нынешние поколения пожилых людей, и предполагает подготовку к периоду старения, отмеченному выходом на пенсию. На основе данных проведённого социологического исследования показано, что трудовые, финансовые и здоровьесберегающие траектории респондентов, которые не достигли пенсионного возраста, в русле подготовки к выходу на пенсию в чем-то соответствуют принципам активного долголетия, в чем-то противоречат им. При этом основные различия наблюдаются между респондентами моложе 46 лет и предпенсионерами.
Ориентация респондентов на продолжительную занятость, готовность к профессиональному обучению на протяжению всей жизни, освоение нетрадиционных форм занятости (например, готовность работать на интернет-платформах), осознание ответственности за обеспечение своего экономического благополучия в пожилом возрасте и использование для этого разнообразных стратегий (профессионально-трудовая, сберегательная, инвестиционная), установка на отказ от вредных привычек и поддержание физической активности (спорт, физическая культура) создают основания для проживания старения будущими пенсионерами в соответствии с принципами активного долголетия.
Существуют и барьеры, которые препятствуют трансформации модели старения в направлении следования принципам активного долголетия: влияние объективных факторов экономической нестабильности, низкий уровень финансовой грамотности населения, отсутствие специальных навыков финансового планирования при подготовке к выходу на пенсию, отсутствие культуры заботы о здоровье.
В статье на основе данных новейших социологических исследований рассматривается, каким образом текущие кризисные условия влияют на восприятие россиянами своего благосостояния, их удовлетворенность различными аспектами повседневной жизни и их представления о справедливом государстве. Автор отмечает, что, несмотря на сложные социально-экономические условия, многие россияне эмоционально адаптировались к кризисной ситуации, чему в большой степени способствовала возрастающая значимость нематериальных факторов благосостояния, прежде всего гармоничных семейных отношений и дружеский связей. На основании изученных данных, автор замечает, что многие россияне воспринимают межличностные отношения с ближайшим кругом как ключевой элемент своего благополучия, что свидетельствует не только о важности нематериальных ценностей коммуникации и эмоционального комфорта, но и о массовом запросе на стабильные социальные связи.
Несмотря на растущее влияние на самооценку гражданами качества своей жизни нематериальных факторов, на их субъективное благополучие в значительной степени влияют исторически сложившиеся в обществе структурные социальные неравенства: возрастные, имущественные и географические. Молодежь и жители крупных городов чаще оценивают свою жизнь положительно, тогда как представители старших поколений и жители сельской местности, как правило, выражают более негативное мнение о своем благосостоянии. Эта разница в восприятии также наблюдается в оценках доступности качественных медицинских услуг, где жители городов, особенно мегаполисов, имеют явные преимущества.
В представлениях современных россиян важной составляющей личного благополучия является также и жизнь в справедливо устроенном обществе, а идея социальной справедливости остается актуальной для большинства граждан. Социальную справедливость россияне понимают прежде всего как равные возможности всех граждан для самореализации и достижения успеха. Но, хотя на протяжении постсоветского периода идея равенства доходов проигрывала запросу на создание благоприятных предпосылок для самореализации, сегодня более трети россиян предпочитают равенству «стартовых условий» равный доступ к жизненным благам.
Автор приходит к выводу, что сегодня в общественном мнении сформирован запрос на активное участие государства в обеспечении социальной справедливости, который укрепляется под влиянием кризисных тенденций.
В данной статье анализируется специфика субъективного социального благополучия в контексте поселенческих неравенств. Эмпирической основой анализа являются данные общероссийских репрезентативных исследований, проведенных Институтом социологии ФНИСЦ РАН. Показано, что за последние два десятилетия в массовом сознании россиян в части восприятия различных показателей социального благополучия происходили значимые сдвиги. Это привело к формированию устойчивой и в целом гармоничной картины субъективного социального благополучия у жителей всех типов поселений. При этом зафиксировано, что показатели, связанные с базовыми потребностями (оценки питания, одежды, жилищных условий, материальной обеспеченности и состояния здоровья) и социальным микромиром (оценки отношений в семье, возможностей в части общения с друзьями, реализации в профессии, получения необходимого образования, организации отдыха в период отпуска, проведения досуга, а также ситуации на работе) у большинства респондентов отличаются более позитивным их восприятием, нежели компоненты социального благополучия, характеризующие специфику локального сообщества (оценки места проживания, занимаемого в обществе положения, уровня личной безопасности и экологической ситуации) и условного «макромира» (оценки доступности Интернета и цифровых технологий, уровня социальной защищенности в случае потери работы, а также возможностей в части выражения политических взглядов, получения необходимой медицинской помощи и влияния на собственную жизнь). В статье показано, что субъективное социальное благополучие селян в сравнении с горожанами пока еще отличается в худшую сторону, за исключением восприятия блока характеристик социального благополучия, связанного со спецификой локального сообщества, т.е. места проживания. В этом отношении селяне по итогам исследования 2023 г. впервые опередили горожан. Выявлена в целом заметная тенденция сглаживания поселенческих различий в восприятии различных аспектов социального благополучия прежде всего за счет более высоких темпов улучшений субъективных оценок у селян. Отмечено также, что проблемный фон в восприятии социального благополучия формируется за счет относительной неудовлетворенности россиян отдельными аспектами жизни. Они связаны прежде всего со скептично оцениваемыми жителями всех населенных пунктов уровнем социальной защищенности индивида в случае потери им работы, неудовлетворенностью населением центров субъектов РФ сложившейся там экологической ситуацией, а также сохраняющимися проблемами с доступом к необходимой медицинской помощи на селе.
Представленная статья посвящена изменениям масштабов и качественных особенностей объективной и субъективной бедности в российском обществе в последние 20 лет. На основании данных общероссийских эмпирических исследований, проведенных ФНИСЦ РАН в 2003, 2013 и 2023 гг., прослежена динамика численности объективно и субъективно бедных россиян, зоны пересечения этих групп, условий их жизни, восприятия ими своего положения и представлений о будущем страны. Полученные результаты свидетельствуют о произошедшем за последние 20 лет заметном сокращении как объективной бедности (по уровню доходов), так и субъективной бедности (по самооценке своего материального положения) среди россиян, которое в основном пришлось на первую половину указанного периода. Сокращение долей объективной и субъективной бедности сопровождалось их расхождением между собой. В итоге, все меньшая доля россиян оказывается в зоне бедности одновременно по двум этим измерениям, а портреты и особенности этих групп различаются все больше. Объективно бедные меньше отличаются по оценкам своего положения и возможностей в разных сферах от населения в целом, что говорит, с одной стороны, об относительно неглубоком характере бедности по доходам, а с другой - о скромном уровне жизни «типичного россиянина». Субъективно бедные характеризуются более заметными отличиями от населения в целом, в частности - негативными оценками многих сфер своей жизни. Схожая ситуация наблюдается с социально-психологическим самочувствием представителей этих групп: хотя за прошедшие 20 лет оно улучшилось как среди бедных по доходам, так и среди бедных по самооценке, положительные изменения в первой группе происходили быстрее. В итоге, бедные по самооценке характеризуются более высоким сравнительно с остальными россиянами уровнем пессимизма и тревожности. В отношении же оценок пути развития России и объективно, и субъективно бедные мало отличаются от остальных россиян, демонстрируя общественный консенсус: население верит в светлое будущее для страны, но при условии ее особого пути, позволяющего обеспечивать социальную стабильность. Наконец, важно отметить несводимость субъективно бедных к пенсионерам: данные подтверждают, что эта группа гетерогенна по своему составу, что определяет отсутствие четкого портрета и невозможность выделить ее как «единого адресата» социально-экономической политики.
В статье рассматриваются три ракурса изучения среднего класса в современной России. Первый ракурс представлен кратким экскурсом в историю развития исследований среднего класса в постсоветский период. Второй ракурс посвящен рассмотрению методологических вопросов изучения среднего класса, критериев его выделения в социальной структуре российского общества и определение на этой основе количественных характеристик среднего класса. Третий ракурс представлен результатами анализа среднего класса в соответствии с авторской методикой его выделения по трем критериям - материальный уровень жизни, образование и самоидентификация со средним слоем. Методика применяется к анализу среднего класса с использованием данных всероссийского мониторинга, проводимого Центром изучения социокультурных изменений Института философии РАН с 1990 г. по настоящее время. Она позволяет проследить динамику среднего класса в постсоветский период, его состав по профессиональным характеристикам, сферам занятости, стратегиям в трудовой деятельности и другим аспектам. Последняя волна мониторинга (лето 2023 г.) была сфокусирована на отношении населения к выбору пути, по которому должна идти страна и на самоидентификации респондента с той или иной моделью развития России. Средний класс в своем большинстве (67%) выбрал и для страны и лично для себя особый, российский путь развития, практически отвергая путь, которым следуют западные общества, развитые мусульманские страны и Китай. При этом на втором месте (30%) мнение, что Россия должна использовать все лучшее, что есть в опыте других стран. Одновременно респонденты заявили себя сторонниками демократических форм правления, настаивают на соблюдении прав и свобод человека, прежде всего в экономической и социальной сферах, как наиболее близких повседневным интересам людей. По результатам исследования был сделан вывод, что большинством россиян, и особенно средним классом, самобытный путь для России понимается как путь суверенного государства, основанного на традиционных и гуманитарных ценностях, и отнюдь не означает желания жить в традиционном обществе, которое утратило многие свои черты под воздействием десятилетий модернизации.
Дискуссии о том, сконструирован ли социальный мир человеком или он существует на самом деле в социологии практически перманентны, а победы в них временны. В итоге современная социологическая теория содержит все сразу: объективное существование структур и институтов, вымышленную реальность конструктов, зыбкость бессодержательных симулякров, и даже то, чего еще вовсе нет, но оно уже зафиксировано в концепциях постгуманизма. Для интерпретации происходящего можно воспользоваться любым теоретическим инструментом или взять сразу несколько. Проблема, с нашей точки зрения, заключается в отсутствии отрефлексированных связей между ними, тогда как объективное и субъективное (в значении реального и субъективно воспринимаемого и/или сконструированного) взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они способны превращаться, например, из конструкта в социальную реальность или наоборот; трансформируют реальность в конструкт, или существуют неразрывно. Эта сложная диалектика отчетливо прослеживается в статьях данного номера.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.
Издательство
- Издательство
- ФНИСЦ РАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, к. 5
- Юр. адрес
- 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, к. 5
- ФИО
- Черныш Михаил Федорович (Директор)
- E-mail адрес
- fnisc@fnisc.ru
- Контактный телефон
- +8 (499) 1250079
- Сайт
- https://www.fnisc.ru